Методология исторического исследования | Понятия и категории
МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ — 1) теоретические положения исторической науки, которые выступают средством открытия новых исторических фактов или используются в качестве инструмента познания прошлого [В. В. Косолапов]; 2) теоретическая основа конкретно-исторического исследования [Н. А. Мининков].
Методология исторического исследования — это способ решения научной проблемы и достижения его цели — получения нового исторического знания. Методология исторического исследования как способ исследовательской деятельности представляет собой систему теоретического знания, включающую цель, задачи, предмет, когнитивную стратегию, методы и методику производства исторического знания. Эта система включает знания двух видов — предметные и методологические. Предметные теоретические знания являются результатом конкретных исторических исследований. Это — теоретические знания об исторической действительности. Методологические теоретические знания — это результат специальных научных исследований, предметом которых выступает научно-исследовательская деятельность историков.
Теоретические знания предметного и методологического содержания включаются в структуру методологии исторического исследования при условии их интериоризации методологическим сознанием исследователя, в результате чего они становятся проектной и нормативной основой научно-исследовательской деятельности. В структуре методологии исторического исследования такие теоретические знания выполняют функцию когнитивных «фильтров», опосредующих взаимодействие субъекта и предмета исторического исследования. Такие «предпосылочные» или «внеисточниковые» знания иногда называют паттернами, которые представляют собой синкретическое единство конструктивного и концептуального. Это — «образы», с одной стороны, предмета исторического исследования, а с другой — самого процесса его исследования.
В структуре методологии исторического исследования можно выделить следующие уровни: 1) модель исторического исследования как система нормативного знания, определяющего предметную область конкретного научного исследования, его когнитивную стратегию, основные принципы и познавательные средства; 2) парадигма исторического исследования как образец и стандарт постановки и решения определенного класса исследовательских задач, принятые в научном сообществе, к которому принадлежит исследователь; 3) исторические теории, имеющие отношение к предметной области конкретно- исторического исследования, формирующие его научный тезаурус, модель предмета и используемые в качестве объяснительных конструктов или понимающих концептов; 4) методы исторического исследования как способы решения отдельных научно-исследовательских задач.
Следует различать понятие «методология исторического исследования» и понятие методологии истории как отрасли специальных научных исследований или научной дисциплины, сформировавшейся в рамках исторической науки с целью теоретического обеспечения эффективности проводимых в ней исторических исследований. Методология истории как отрасль науки, по мнению российского историка начала XX века А. С. Лаппо-Данилевского, распадается на две части: теорию исторического знания и учение о методах исторического мышления. В XX веке в предметную область методологии, как научной дисциплины, стали включать принципы и методы исторического исследования, закономерности процесса исторического познания, а также такие вопросы не методологического содержания, как смысл истории, роль народных масс в истории, закономерности исторического процесса. В настоящее время методологию истории рассматривают как научную дисциплину, обеспечивающую организацию исследовательского процесса с целью получения нового и максимально достоверного знания [Н.
Выделение исторического исследования в качестве предмета методологии истории как научной дисциплины ставит важные вопросы: является ли это исследование целесообразным или оно носит произвольный характер, какие условия определяют возможность получения нового исторического знания, существуют ли логика и нормы научно-исследовательской деятельности историка, познаваем ли ее процесс?
Внутренний мир историка всегда требует определенной свободы творчества, он связан с вдохновением, интуицией, воображением и некоторыми другими неповторимыми психическими качествами ученого. Поэтому в данном отношении историческое исследование как творчество является искусством. Вместе с тем историческое исследование, чтобы быть научным, должно проводиться в соответствии с определенными принципами и требованиями, которые должен соблюдать ученый. Поэтому свобода творчества, «вспышки озарения» в исторической науке неизбежно соседствуют с представлениями ученого о необходимых элементах целенаправленной познавательной деятельности.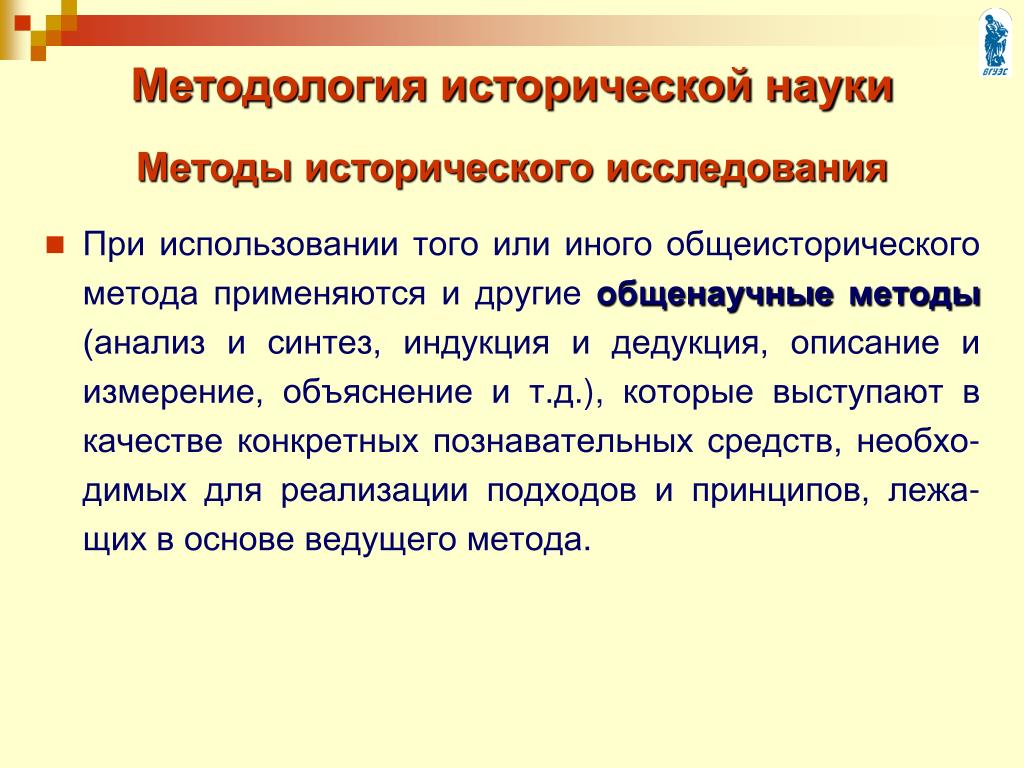
А. В. Лубский
Определение понятия цитируется по изд.: Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь. Отв. ред. А.О. Чубарьян. [М.], 2014, с. 274-277.
Литература:
Косолапов В. В. Методология и логика исторического исследования. Киев.1977. С. 50; Лаппо-Даншевский А. С. Методология истории. М, 2006. С. 18; Лубский А. В. Альтернативные модели исторического исследования: концептуальная интерпретация когнитивных практик. Saarbriicken, 2010; Мипинков Н. А. Методология истории: пособие для начинающего исследователя. Ростов н / Д, 2004. С. 93-94: Смоленский Н. И. Теория и методология истории: учеб. пособ. 2-е изд., стер. М., 2008. С. 265.
Saarbriicken, 2010; Мипинков Н. А. Методология истории: пособие для начинающего исследователя. Ростов н / Д, 2004. С. 93-94: Смоленский Н. И. Теория и методология истории: учеб. пособ. 2-е изд., стер. М., 2008. С. 265.
ПРОГРАММА для поступающих в аспирантуру по специальности «Историография, источниковедение и методы исторического исследования» (07.00.09).
1. Теоретико-методологические проблемы исторического познания.
История как действительность и история как наука, их соотношение. Специфика исторического познания. Проблема объективности истории. Исторический источник и исторический факт. Исторический опыт и современность. Социальные функции исторической науки.
История в системе социального и гуманитарного знания. Историческая теория как концептуальная форма осмысления эмпирической действительности. Категориальный аппарат исторической науки. Исторический закон и конкретная историческая закономерность. Случайность в истории. Историческая альтернативность.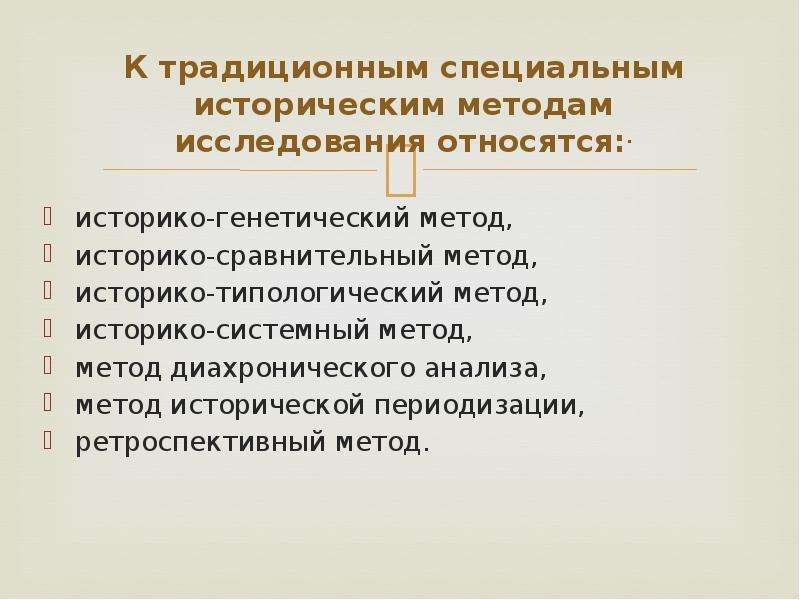 Историческое время. Историческое пространство. Детерминизм в истории. Мультиказуальность исторического процесса.
Историческое время. Историческое пространство. Детерминизм в истории. Мультиказуальность исторического процесса.
Принципы исторического познания. Историзм как способ мышления и как принцип научного познания. Его основополагающее значение в системе гуманитарного знания. Основные разновидности историзма. Современные трактовки принципа историзма. Ценностный подход в истории. Партийность и тенденциозность в подходе к прошлому. Вульгаризация и догматизация принципов исторического познания. Принцип системности в изучении истории. Социальная система и исторические структуры. Формационный и цивилизационный подход в осмыслении прошлого. Методы исторического исследования. Общенаучные методы и их место в историческом исследовании (историко-сравнительный, историко-генетический, ретроспективный и др.). Количественные методы в историческом исследовании. Возможности и границы их применения. Проблема измерения в истории. Моделирование исторических явлений и процессов. Основные типы моделей.
2.
 Основные этапы развития историографии всеобщей истории.
Основные этапы развития историографии всеобщей истории.Основные закономерности формирования и развития исторических знаний. Диалектика внутри- и вненаучных факторов движения исторической мысли.
Становление и развитие античной историографии. Геродот. Фукидид. Античная философская мысль и историография. Римская историография. Тацит. Особенности исторического мышления античности. Циклизм.
Основные тенденции развития исторической мысли в средние века. Христианская философия истории и историческая мысль. Августин. Теория четырех монархий как основа средневекового историописания. Гуманистическая историография. Н. Макиавелли. Протестантская историография. Эрудиты. Рационализм XVII в. и его влияние на историческую мысль. «Социальная физика».
Историческая мысль в эпоху Просвещения. Просветительская философия истории. Ф.-М. Аруэ Вольтер. Идея прогресса. Особенности просветительской историографии в Германии. И.Г. Гердер. Особенности просветительской историографии в Англии. Э. Гиббон.
Э. Гиббон.
Французская буржуазная революция конца XVIII в. и историческая мысль. Германо-романская проблема в исторической науке. Буржуазная теория классовой борьбы. Ф. Гизо, О. Тьерри. Философия истории Г.В.Ф. Гегеля. Дворянская реакция на идеи Просвещения и революции. Романтизм в исторической науке.
Основная проблематика исторических исследований в первой половине XIX в. Развитие критического метода. Б.Г. Нибур. Французская буржуазная революция 1830 г. и историческая мысль. Развитие вспомогательных исторических наук. Утверждение исторического метода в гуманитарных науках. Открытие материалистического понимания истории. Марксизм о фундаментальном значении истории в системе общественных наук. Взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса по проблемам всеобщей истории.
Основные закономерности развития буржуазной исторической мысли во второй половине XIX в. Буржуазные революции 1848-49 г.г. и историческая наука. Историко-социологические взгляды Л. Штейна и А. Токвиля. Марковая теория Г. Л. Маурера. Историческая концепция Я. Буркхардта.
Л. Маурера. Историческая концепция Я. Буркхардта.
Позитивизм и буржуазная историческая мысль. Историческая концепция Г.Т. Бокля. Особенности позитивистской историографии в различных европейских странах и в США.
Немецкий идеалистический историзм. Его основные течения и принципы. Л. Ранке. Малогерманская школа. Теоретико-методологическое обоснование немецкого идеалистического историзма. И.Г. Дройзен.
Основная проблематика буржуазной историографии всеобщей истории второй половины XIX в. Развитие историко-экономического направления. Его достижения в изучении истории древнего мира, средних веков и нового времени. Совершенствование методики исторического исследования. Развитие историко-культурных исследований. Проблема перехода от античности к средним векам в историографии конца XIX в. Н.Д. Фюстель де Куланж. Ф. Сибом.
Изучение проблем всеобщей истории в России. Т.Г. Грановский. Русская буржуазная историография античной истории. М.С. Куторга. Социально-экономическое направление в русской либеральной историографии. Труды М.М. Ковалевского, П.Г. Виноградова, И.В. Лучицкого, Н.И. Кареева, Д.М. Петрушевского, А.Н. Савина. Их значение в изучении истории средних веков и нового времени. Русское византиноведение.
Труды М.М. Ковалевского, П.Г. Виноградова, И.В. Лучицкого, Н.И. Кареева, Д.М. Петрушевского, А.Н. Савина. Их значение в изучении истории средних веков и нового времени. Русское византиноведение.
Понятие кризиса исторической науки. Кризис идейно-теоретических основ немарксистской историографии. Его предпосылки, содержание и основные этапы. Кризисные тенденции в развитии немарксистской историографии на рубеже столетия. Развернутый пересмотр представлений о природе исторического познания и истине в истории.
Философия жизни В. Дильтея. Философия истории немецкого неокантианства. Теория «идеальных типов» М. Вебера. Проблема специфики исторического познания в русской либеральной историографии начала XX в. Р.Ю. Виппер, А.С. Лаппо-Данилевский.
Кризис немецкого идеалистического историзма. Распределение иррационалистических, релятивистских и презентистских идей. Философия истории О. Шпенглера. Культурно-историческая концепция Й. Хейзинги.
Разработка проблем социально-экономической истории в немарксистской историографии 20-30- х годов.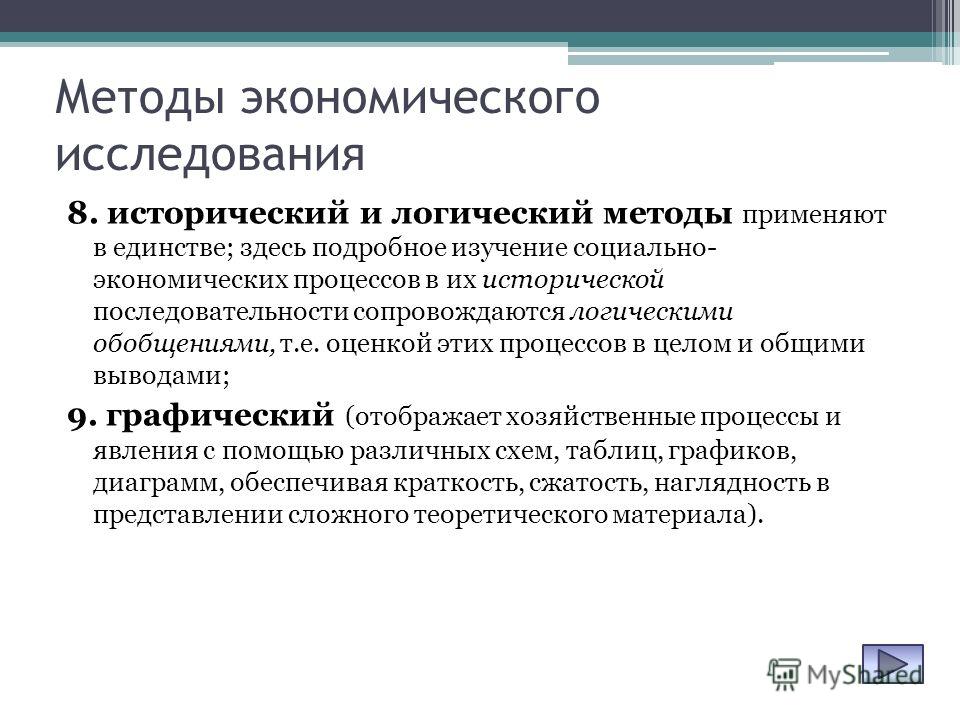 Школа «Анналов» М. Блок. Экономическое («прогрессистское») направление в историографии США. Ч. Бирд и К. Беккер. Р. Дж. Коллингвуд. Русская религиозная философия истории. Н.А. Бердяев. Историческая концепция евразийцев.
Школа «Анналов» М. Блок. Экономическое («прогрессистское») направление в историографии США. Ч. Бирд и К. Беккер. Р. Дж. Коллингвуд. Русская религиозная философия истории. Н.А. Бердяев. Историческая концепция евразийцев.
Историческая мысль после II мировой войны. Кризис либеральной идеи истории. Историография А. Дж. Тойнби. Эволюция его идейно-теоретических взглядов в 60-х — первой половине 70-х годов ХХ века.
Школа «Анналов» и ее место в послевоенном развитии исторической науки. «Глобальная история» Ф. Броделя. Школа «Анналов» в 70-80-е годы. Модернизация теоретико-методологических основ западной историографии. «Новая научная история» и ее разновидности. Расширение предмета истории. Появление новых исследовательских методик. Новые субдисциплины. История ментальностей. Фрагментизация исторической науки. «Возрождение нарратива». Эпистемологические дискуссии 70-80-х годов. «Лингвистический поворот». Постмодернизм и историческая наука. Гуманизация исторического знания.
Основные закономерности становления и развития советской историографии всеобщей истории. Утверждение в советской историографии марксистской концепции всеобщей истории. Труды А.И. Тюменева, В.В. Струве, А.И. Неусыхина, Е.А. Косминского, Е.В. Тарле, А.И. Данилова. Вульгаризация и догматизация марксизма и ее отражение на изучение всеобщей истории. Изучение истории народной культуры. М.М. Бахтин, А.Я. Гуревич. Востоковедные исследования. Историческая концепция Л.Н. Гумилева.
Утверждение в советской историографии марксистской концепции всеобщей истории. Труды А.И. Тюменева, В.В. Струве, А.И. Неусыхина, Е.А. Косминского, Е.В. Тарле, А.И. Данилова. Вульгаризация и догматизация марксизма и ее отражение на изучение всеобщей истории. Изучение истории народной культуры. М.М. Бахтин, А.Я. Гуревич. Востоковедные исследования. Историческая концепция Л.Н. Гумилева.
Кризис отечественной историографии и пути его преодоления.
3. Историография истории России.
Объект и предмет историографии истории России: дискуссии и обсуждения.
Предпосылки перехода к научному анализу исторических событий. Западноевропейская философская система рационализма. Прагматизм и его значение в развитии теории исторической науки.
Становление рационалистически-прагматической концепции истории России В.Н. Татищева. Определение предмета, задач и цели исторических исследований. Основания русской истории, периодизация, характеристика основных этапов. Идея причинности исторического процесса. Естественно-правовое обоснование возникновения государства и самодержавия на Руси. Значение научного вклада В.Н. Татищева в развитие исторической мысли.
Естественно-правовое обоснование возникновения государства и самодержавия на Руси. Значение научного вклада В.Н. Татищева в развитие исторической мысли.
Академическая наука и разработка проблем истории России. Роль иностранных ученых Г.-З. Байера, Г.Ф. Миллера, А.-Л. Шлецера в развитии российской исторической науки. Норманская теория.
Историческая концепция М.В. Ломоносова. Связь исторических представлений М.В. Ломоносова с практическими задачами борьбы за политический, экономический и культурный прогресс. Критика «норманской теории».
Совершенствование методов исторического исследования в XVIII в. Создание обобщающих работ по истории России. Формирование государственной точки зрения на историю в сочинениях Екатерины II. Рационалистически-прагматическое понимание истории и новая трактовка самодержавия в трудах М.М. Щербатова.
Историческая концепция И.Н. Болтина. Обоснование определяющего влияния на историческое развитие природно-климатических условий, природы человека, нравов и обычаев народов.
Возникновение оппозиционного течения в исторической науке. Публикаторская и издательская деятельность Н.И. Новикова. А.Н. Радищев о происхождении государства, самодержавия, крепостного права.
Исторические взгляды Н.М. Карамзина. Самодержавно-охранительная позиция историка, его взгляды на формы политического устройства. «История государства Российского».
Славянофилы и их место в истории исторической науки. Отношения народа и государства, роль русской общины в концепции славянофилов. Противопоставление исторического пути России и стран Западной Европы.
Либеральное направление отечественной исторической науки. Н.А. Полевой «Философский метод» и принципы его применения. Россия и Запад как методологическая проблема в концепции Полевого.
Творческое наследие государственной школы. «Теория русской истории» И.Д. Кавелина. Схема русской истории Б.Н. Чичерина и трактовка им государства как высшей формы общественных отношений. Россия и Запад в концепции Чичерина и Кавелина.
Оппозиционное направление отечественной историографии. Теоретические основания исторических взглядов А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского.
Исторические взгляды В.О. Ключевского. «Курс русской истории» и его концепция. Периодизация русской истории. Факторы исторического развития. Разработка Ключевским вопросов историографии и источниковедения.
Влияние нараставшего социально-экономического кризиса начала XX в. на историческую науку. Активизация идейно-политической жизни в стране. Теоретико-методологические искания в исторической науке и общественной мысли.
Методология истории в трудах А.С. Лаппо-Динилевского. Значение концепции Лаппо-Данилевского для разработки теоретико-методологических проблем источниковедения.
Исследования феодализма в трудах Н.П. Павлова-Сильванского, его вклад в изучение истории общественного движения. Поиск закономерности в общественном развитии. Периодизация истории.
Легальные марксисты в отечественной историографии. Исследование истории русской фабрики в трудах М.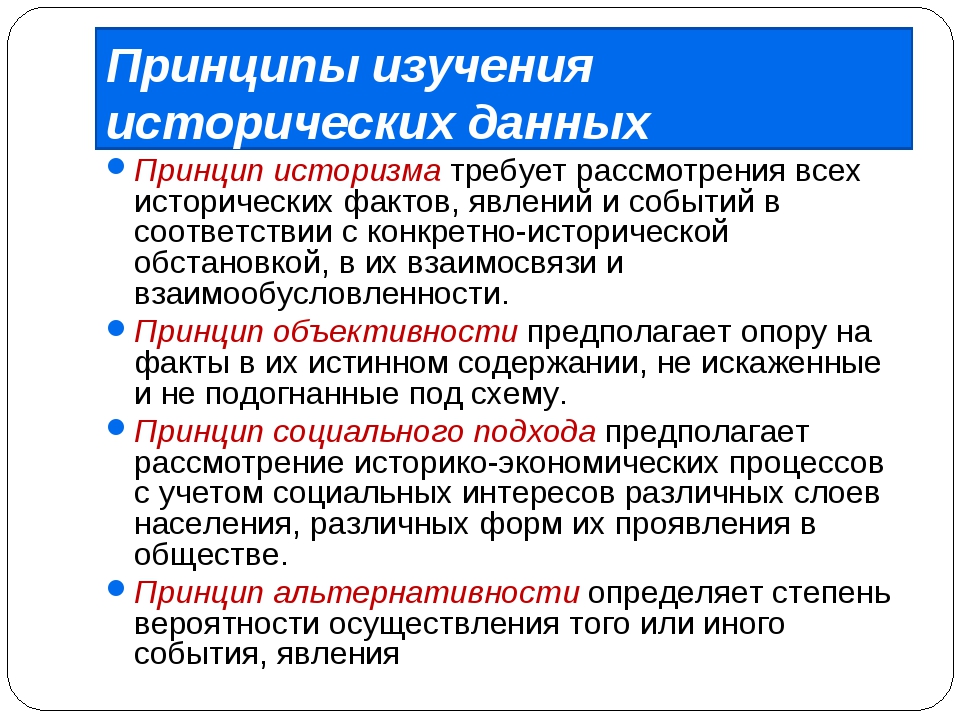 И. Туган-Барановского и эволюция его исторических взглядов. Труды П.Б. Струве.
И. Туган-Барановского и эволюция его исторических взглядов. Труды П.Б. Струве.
Социалистическое направление русской исторической науки. Роль В.И. Ленина в развитии марксистского подхода к истории.
Методологическая основа исторических исследований Н.А. Рожкова. Законы «социальной динамики» и «социальной статики» в его трудах, схема истории России.
Октябрьская революция и историческая наука. Место, роль и функции исторической науки в советском обществе.
Советские историки-марксисты. Книга М.Н. Покровского «Русская история в самом сжатом очерке». Творчество В.И. Невского, М.С. Ольминского, Е.М. Ярославского.
Борьба течений в историографии 1920-х гг. «Дело Академии наук» и его роль в ликвидации идейных противников большевиков.
Этапы создания официальной концепции истории России и большевистской партии.
Труды Б.Д. Грекова, Е.В. Тарле, С.В. Бахрушина, Ю.В. Готье, М.Н. Тихомирова по истории Древней Руси, образования Русского централизованного государства, военной и внешнеполитической истории России. Первые попытки осмысления советской истории. Изучение истории народов СССР.
Первые попытки осмысления советской истории. Изучение истории народов СССР.
Научная деятельность российских ученых за границей. Основные направления эмигрантской историографии — евразийское, социологическое, теософское. «Начертание русской истории» Г.В. Вернадского. Труды Е.Ф. Шмурло, П.М. Бицилли, А.А. Кизеветтера. Творческая деятельность П.Н. Милюкова в эмиграции.
Неонародническая и меньшевистская историография. Характеристика работ С.П. Мельгунова и Б.И. Николаевского по истории России, революции 1917 г. и гражданской войны, советской истории.
Исторические взгляды Н.А. Бердяева в его работе «Истоки и смысл русского коммунизма».
Усиление влияния сталинизма на историческую науку в первое послевоенное десятилетие.
Новые тенденции в советской историографии 50-х гг., дискуссия о периодизации феодальной и капиталистической формаций. Труды М.Н. Тихомирова, Б.А. Рыбакова, Л.В. Черепнина, М.В. Нечкиной, А.М. Панкратовой.
«Новое направление» в советской историографии и его роль в повышении интереса к обсуждению теоретических и методологических проблем, изучении истории монополистического капитализма и предпосылок революции 1917 г. (П.В. Волобуев, М.Я. Гефтер, К.Н. Тарновский).
(П.В. Волобуев, М.Я. Гефтер, К.Н. Тарновский).
Обновление методического инструментария исторических исследований. Вклад И.Д. Ковальченко и Л.В. Милова в создание отечественной школы по применению количественных методов в исторической науке. Ю.М. Лотман и создание советской семиотической школы. Новые концептуальные подходы к изучению феодальной истории России (А.А. Зимин, Л.Н. Гумилев), культуры средневековья (М.М. Бахтин, А.Я. Гуревич), политической истории (А.Я. Аврех).
Российская историческая наука за рубежом в 60-80-е гг. Изучение истории древнерусской культуры (А.В. Соловьев), русской православной церкви (А.В. Карташев), советского периода (А.Г. Авторханов), истории русского зарубежья (П.Е. Ковалевский, Н.М. Зернов). Труды историков «третьей волны» эмиграции (М.Я. Геллер, А.М. Некрич).
Основные тенденции развития современной отечественной историографии. Складывание альтернативных точек зрения на историю России.
Традиции и новации в отечественной историографии конца ХХ — начала ХХI вв. «Кризис» в исторической науке и поиск путей выхода из него. Переосмысление истории России с позиций цивилизационного подхода. Три интерпретации исторических фактов: всемирно-историческая (линейная), либерально-эволюционная, модернизационная.
«Кризис» в исторической науке и поиск путей выхода из него. Переосмысление истории России с позиций цивилизационного подхода. Три интерпретации исторических фактов: всемирно-историческая (линейная), либерально-эволюционная, модернизационная.
4. Источниковедение всеобщей истории.
Понятие об историческом источнике. Источниковедение как специальная историческая дисциплина, разрабатывающая методы изучения и использования исторических источников.
Основные группы исторических источников и принципы их классификации.
Основные принципы изучения исторических источников и стадии работы исследователя. Источниковедческий анализ и его задачи. Внешняя и внутренняя критика исторических источников. Особенности анализа отдельных видов источников. Принципы формирования источниковой базы исследования.
5. Источниковедение истории России.
Русские летописи и их значение в становлении российского государства.
Видовые признаки летописи, многоплановость содержания. Структура и формы летописных сочинений. Особенности отражения исторической действительности в летописях.
Структура и формы летописных сочинений. Особенности отражения исторической действительности в летописях.
Основные особенности летописей периода феодальной раздробленности, местные летописные своды XII-XIII вв. Начало и развитие Московского летописания, его общерусский характер. Летописные своды XVI в. Воскресенская и Никоновская летописи. Лицевой свод. Царственная книга. Миниатюры как исторический источник.
Русские хронографы: время их зарождения; состав, источники и редакции.
Особенности «позднего летописания». Новые приемы работы летописцев и типология сочинений позднего летописания. Источниковедческие проблемы изучения летописных произведений.
Документы центральных органов управления Изменения в структуре и функциях центральных органов власти и управления. Характер, содержание и форма организации делопроизводства.
Документы органов местного управления. Аппарат местного управления. Его отличительные особенности, единообразие структур и штатов органов местного управления. Система иерархического подчинения и движения документации.
Система иерархического подчинения и движения документации.
Материалы личного происхождения. Особенности и видовая характеристика источников личного происхождения. Общие принципы изучения документов личного происхождения.
Публицистические, литературные произведения и периодическая печать как исторический источник. Приемы и методы изучения и использования в исторических исследованиях.
Документы политических партий как исторический источник.
Массовые источники. Типы массовых источников. Особенности их источниковедческого анализа, методы обработки. Итоги и перспективы изучения массовых источников в отечественной историографии. Применение количественных методов для их анализа.
Документы высших центральных органов власти и управления СССР в ГАРФ.
Документы общественных организаций СССР.
Современное источниковедение: школы и различные представления об источнике. Традиции источниковедческого исследования, преемственность и отличия. Новые подходы к методам исследования источников.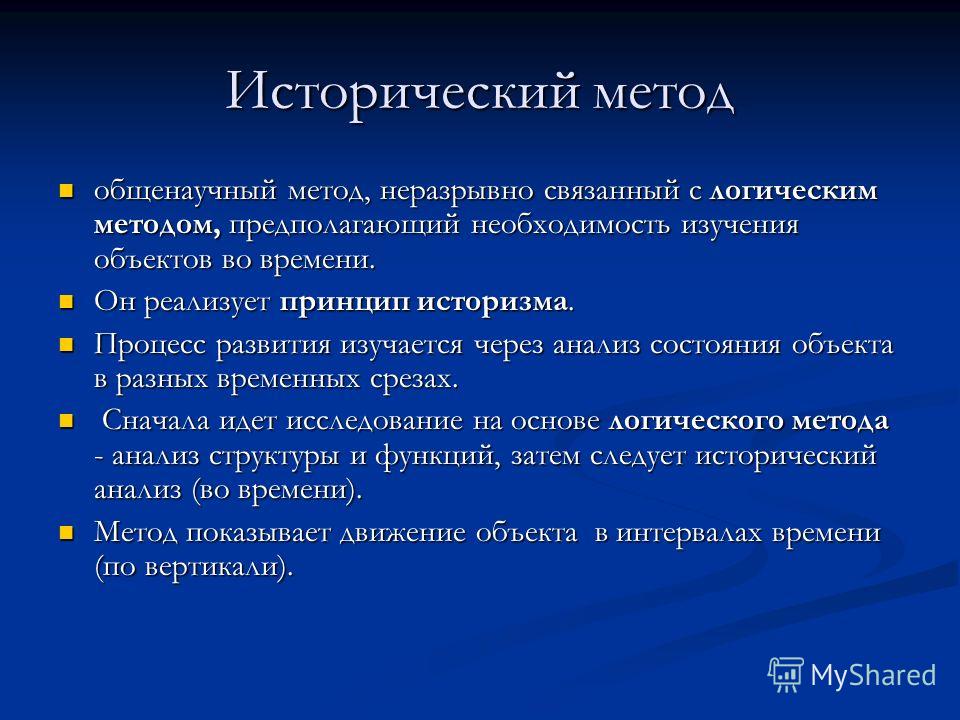
Реферат «Методы исторического исследования»
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
«Сургутский государственный педагогический университет»
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Реферат
Выполнил: Воробьева Е.В. группа Б-3071, IV курс СГФ Проверил: Медведев В.В.
г. Сургут
2017 г.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Перед современным историком стоит непростая задача разработки методики исследования, которая должна базироваться на знании и понимании возможностей существующих в исторической науке методов, а также взвешенной оценки их полезности, эффективности, надежности.
В отечественной философии выделяют три уровня методов науки: всеобщий, общий, частный. Основанием деления выступает степень регулятивности познавательных процессов.
К всеобщим методам относят философские методы, которые используются в основе всех познавательных процедур и позволяют дать объяснение всем процессам и явлениям в природе, обществе и мышлении.
Общие методы применяются на всех стадиях познавательного процесса (эмпирическом и теоретическом) и всеми науками. Вместе с тем они ориентированы на осмысление отдельных сторон изучаемого явления.
Третья группа – частные методы. К ним относятся методы конкретной науки – это, например, физический или биологический эксперимент, наблюдение, математическое программирование, описательные и генетические методы в геологии, сравнительный анализ в языкознании, методы измерения в химии, физике и т. д.
Частные методы непосредственно связаны с предметом изучения науки и отражают его специфику. В каждой науке складывается своя система методов, которая развивается и дополняется за счет смежных дисциплин вместе с развитием науки. Это свойственно и истории, где наряду с традиционно установившимися методами источниковедческого и историографического анализа, основанными на логических операциях, стали использоваться методы статистики, математического моделирования, картографирования, наблюдения, опроса и т. д.
В каждой науке складывается своя система методов, которая развивается и дополняется за счет смежных дисциплин вместе с развитием науки. Это свойственно и истории, где наряду с традиционно установившимися методами источниковедческого и историографического анализа, основанными на логических операциях, стали использоваться методы статистики, математического моделирования, картографирования, наблюдения, опроса и т. д.
В рамках конкретной науки также выделяются основные методы – базовые для данной науки (в истории это историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический, историко-системный, историко-динамический) и вспомогательные методы, с помощью которых решаются ее отдельные, частные проблемы.
В процессе научного исследования всеобщие, общие и частные методы взаимодействуют и образуют единое целое – методику. Используемый всеобщий метод раскрывает наиболее общие принципы человеческого мышления. Общие методы дают возможность накапливать и анализировать необходимый материал, а также придать полученным научным результатам – знаниям и фактам – логически непротиворечивую форму. Частные методы предназначены для решения конкретных вопросов, раскрывающих отдельные стороны познаваемого предмета.
Частные методы предназначены для решения конкретных вопросов, раскрывающих отдельные стороны познаваемого предмета.
1. ОБЩЕНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ
К общенаучным методам относятся наблюдения и эксперимент, анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия и гипотеза, логическое и историческое, моделирование и др.
Наблюдение и эксперимент относятся к общенаучным методам познания, особенно широко применяемым в естествознания. Под наблюдением имеют виду восприятие, живое созерцание, направляемое определенной задачей без непосредственного вмешательства в естественное течение в естественных условиях. Существенным условием научного наблюдения являются выдвижение той или иной гипотезы, идеи, предложения1.
Эксперимент есть такое изучение объекта, когда исследователь активно воздействует на него путем, создания искусственных условий, необходимых для выявления тех или иных свойств, или же путем изменения хода процесса в заданном направлении.
Познавательная деятельность человека, направленная на раскрытие существенных свойств, отношений и связей предметов, прежде всего выделяет из совокупности наблюдаемых фактов те, которые вовлекаются в его практическую деятельность. Человек мысленно как бы расчленяет предмет на его составляющие стороны, свойства, части. Изучая, например, дерево, человек выделяет в нем разные части и стороны; ствол, корни, ветви, листья, цвет, форму, размеры и т.д. Познание явления путем разложения его на составляющие называется анализом. Другими словами, анализ как прием мышления представляет собой мысленное разложение предмета на составляющие его части и стороны, что дает человеку возможность отделять предметы или какие-либо их стороны от тех случайных и преходящих связей, в которых они даны ему в восприятии. Без анализа невозможно никакое познание, хотя анализ еще не выделяет связей между сторонами, свойствами явлений. Последние устанавливаются, путем синтеза. Синтез представляет собой мысленное объединение расчленяемых анализом элементов2.
Человек разлагает мысленно предмет на составные части для того, чтобы обнаружить сами эти части, чтобы узнать, из чего состоит целое, а затем рассматривает его как составленный из этих частей, но уже обследованных по отдельности.
Лишь постепенно осмысливая то, что происходит с предметами при выполнении практических действий с ними, человек стал мысленно анализировать, синтезировать вещь. Анализ и синтез являются основными приемами мышления, потому что процессы соединения и разъединения, созидания и разрушения составляют основу всех процессов мира и практической деятельности человека.
Индукция и дедукция. В качестве метода исследования индукцию можно определить как процесс выведения общего положения из наблюдения ряда единичных фактов. Наоборот, дедукция – это процесс аналитического рассуждения от общего к частному. Индуктивный метод познания, требующий идти от фактов к законам, диктуется самой природой познаваемого объекта: в нем общее существует в единстве с единичным, частным. Поэтому для постижения общей закономерности нужно исследовать единичные вещи, процессы.
Поэтому для постижения общей закономерности нужно исследовать единичные вещи, процессы.
Индукция является лишь моментом движения мысли. Она тесно связана с дедукцией: любой единичный объект может быть осмыслен, лишь, будучи включенным в систему уже имеющихся я вашем сознании понятий3.
Объективным основанием исторического и логического методов познания является реальная история развития познаваемого объекта во всем его конкретном многообразии и основная, ведущая тенденция, закономерность этого развития. Так, история развития человечества представляет собой динамику жизни всех народов нашей планеты. Каждый имеет из них свою неповторимую историю, свои особенности, получившие выражение в быте, нравах, психологии, языке, культуре и т.д. Всемирная история – это бесконечно пестрая картина жизни человечества различных эпох и стран. Тут и необходимое, и случайное, и существенное, я второстепенное, и уникальное, и сходное, и единичное, и общее4. Но, несмотря на это бесконечное многообразие жизненных путей различных народов, в их истории есть нечто общее. Все народы, как правило, прошли через одни и те же общественно-экономические формации. Общность жизни человечества проявляется во всех областях: и в хозяйственной, и в социальной, и в духовной. Вот эта общность и выражает объективную логику истории Исторический метод предполагает исследование конкретного процесса развития, а логический метод – исследование общих закономерностей движения объекта познания. Логический метод является не чем иным, как тем же историческим способом, только освобожденным от его исторической формы и от нарушающих его случайностей.
Но, несмотря на это бесконечное многообразие жизненных путей различных народов, в их истории есть нечто общее. Все народы, как правило, прошли через одни и те же общественно-экономические формации. Общность жизни человечества проявляется во всех областях: и в хозяйственной, и в социальной, и в духовной. Вот эта общность и выражает объективную логику истории Исторический метод предполагает исследование конкретного процесса развития, а логический метод – исследование общих закономерностей движения объекта познания. Логический метод является не чем иным, как тем же историческим способом, только освобожденным от его исторической формы и от нарушающих его случайностей.
Сущность метода моделирования заключается в воспроизведении свойств объекта на специально устроенном его аналоге – модели. Модель – это условный образ какого-либо объекта. Хотя всякое моделирование огрубляет и упрощает объект познания, оно служит важным вспомогательным средством исследования. Оно дает возможность осуществлять исследование процессов, характерных для оригинала, в отсутствие самого оригинала, что часто бывает необходимо из-за неудобства или невозможности исследования самого объекта5.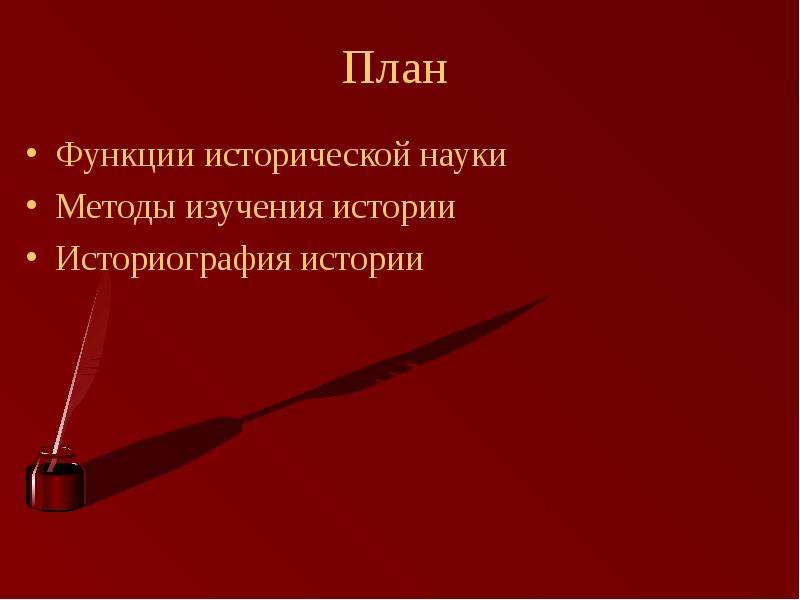
Общенаучные методы познания не подменяют конкретно-научных приемов исследования, напротив, они преломляются в последних и находятся с ними в диалектическом единстве. Вместе с ними они выполняют общую задачу – отражение объективного мира в сознании человека. Общенаучные методы значительно углубляют познание, позволяют вскрыть более общие свойства и закономерности действительности.
2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Специально-исторические, или общеисторические, методы исследования представляют собой то или иное сочетание общенаучных методов, направленных на изучение объекта исторического познания, т.е. учитывающих особенности этого объекта, выраженные в общей теории исторического познания6.
Разработаны следующие специально-исторические методы: генетический, сравнительный, типологический, системный, ретроспективный, реконструктивный, актуализации, периодизации, синхронный, диахронный, биографический.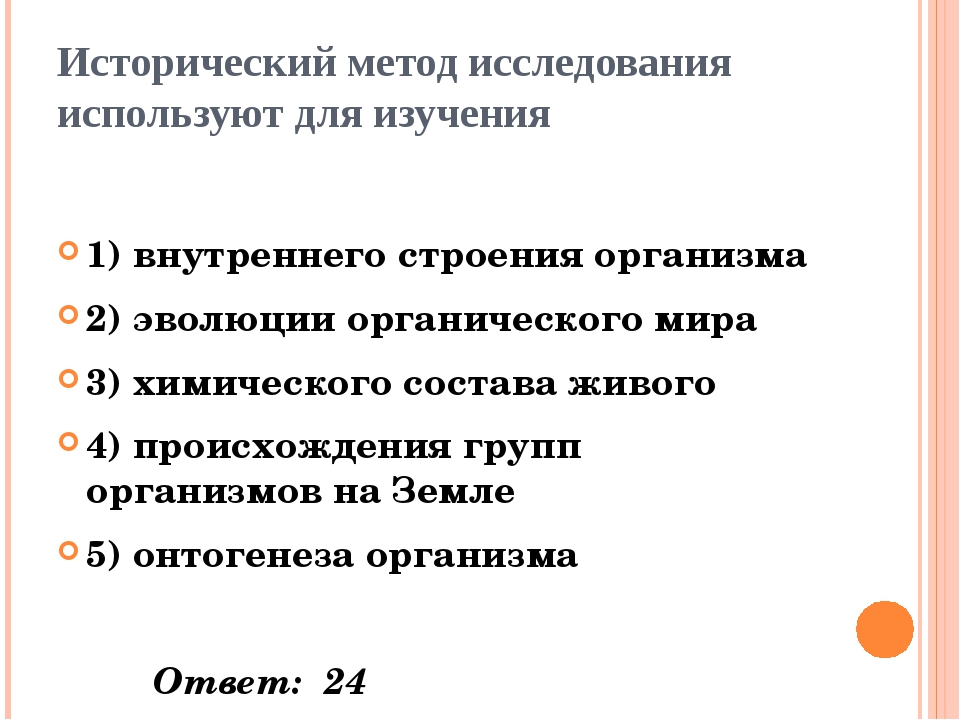 Также применяются методы, связанные с вспомогательными историческими дисциплинами – археологией, генеалогией, геральдикой, исторической географией, исторической ономастикой, метрологией, нумизматикой, палеографией, сфрагистикой, фалеристикой, хронологией и др.
Также применяются методы, связанные с вспомогательными историческими дисциплинами – археологией, генеалогией, геральдикой, исторической географией, исторической ономастикой, метрологией, нумизматикой, палеографией, сфрагистикой, фалеристикой, хронологией и др.
К числу основных общеисторических методов научного исследования относятся: историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический и историко-системный.
Историко-генетический метод относится к числу наиболее распространенных в исторических исследованиях. Суть его состоит в последовательном раскрытии свойств, функций и изменений изучаемой реальности в процессе ее исторического движения, что позволяет в наибольшей мере приблизиться к воспроизведению реальной истории объекта. Этот объект отражается в наиболее конкретной форме. Познание идет последовательно от единичного к особенному, а затем – к общему и всеобщему. По логической природе историко-генетический метод является аналитически-индуктивным, а по форме выражения информации об исследуемой реальности – описательным7.
Специфика этого метода не в конструировании идеальных образов объекта, а в обобщении фактических исторических данных по направлению к воссозданию общей научной картины социального процесса. Его применение позволяет понять не только последовательность событий во времени, но и общую динамику социального процесса.
Ограничения этого метода состоят в недостаточном внимании к статике, т.е. к фиксированию некоей временной данности исторических явлений и процессов, может возникнуть опасность релятивизма. Кроме того он «тяготеет к описательности, фактографизму и эмпиризму. Наконец, историко-генетический метод при всей давности и широте применения не имеет разработанной и четкой логики и понятийного аппарата. Поэтому его методика, а следовательно и техника, расплывчаты и неопределенны, что затрудняет сопоставление и сведение воедино результатов отдельных исследований8.
Идиографический метод был предложен Г. Риккертом в качестве главного метода истории9. Сущность идиографического метода Г.Риккерт сводил к описанию индивидуальных особенностей, уникальных и исключительных черт исторических фактов, которые формируются ученым-историком на основе их «отнесения к ценности». По его мнению, история индивидуализирует события, выделяя их из бесконечного множества т.н. «исторический индивидуум», под которым понималась и нация, и государство, отдельная историческая личность10.
Риккертом в качестве главного метода истории9. Сущность идиографического метода Г.Риккерт сводил к описанию индивидуальных особенностей, уникальных и исключительных черт исторических фактов, которые формируются ученым-историком на основе их «отнесения к ценности». По его мнению, история индивидуализирует события, выделяя их из бесконечного множества т.н. «исторический индивидуум», под которым понималась и нация, и государство, отдельная историческая личность10.
С опорой на идиографический метод применяется метод идеографический — способ однозначной записи понятий и их связей с помощью знаков, или описательный метод. Идея идеографического метода восходит к Луллио и Лейбницу11.
Историко-генетический метод близок к идеографическому методу, особенно при его использовании на первом этапе исторического исследования, когда происходит извлечение информации из источников, их систематизация и обработка.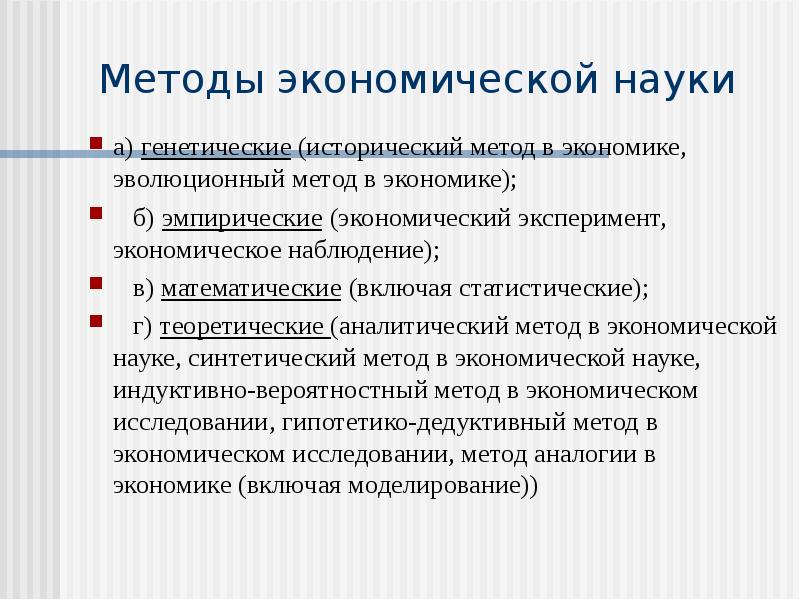 Тогда внимание исследователя сосредоточивается на отдельных исторических фактах и явлениях, на их описании в противовес выявлению черт развития12.
Тогда внимание исследователя сосредоточивается на отдельных исторических фактах и явлениях, на их описании в противовес выявлению черт развития12.
Познавательные функции сравнительно-исторического метода13:
— выделение в явлениях различного порядка признаков, их сравнение, сопоставление;
— выяснение исторической последовательности генетической связи явлений, установление их родовидовых связей и отношений в процессе развития, установление различий в явлениях;
— обобщение, построение типологии социальных процессов и явлений. Таким образом, этот метод шире и содержательнее, чем сравнения и аналогии. Последние не выступают как особый метод исторической науки. Они могут применяться в истории, как и в других областях познания, и независимо от сравнительно-исторического метода.
В целом историко-сравнительный метод обладает широкими познавательными возможностями14.
Во-первых, он позволяет раскрывать сущность исследуемых явлений в тех случаях, когда она неочевидна, на основе имеющихся фактов; выявлять общее и повторяющееся, необходимое и закономерное, с одной стороны, и качественно отличное, с другой. Тем самым заполняются пробелы и исследование доводится до завершенного вида.
Во-вторых, историко-сравнительный метод дает возможность выходить за пределы изучаемых явлений и на основе аналогий приходить к широким историческим обобщениям и параллелям.
В-третьих, он допускает применение всех других общеисторических методов и менее описателен, чем историко-генетический метод.
Успешное применение историко-сравнительного метода, как всякого другого, требует соблюдения ряда методологических требований. Прежде всего, сравнение должно основываться на конкретных фактах, которые отражают существенные признаки явлений, а не их формальное сходство.
Сравнивать можно объекты и явления и однотипные и разнотипные, находящиеся на одних и тех же и на разных стадиях развития. Но в одном случае сущность будет раскрываться на основе выявления сходств, в другом – различий. Соблюдение указанных условий исторических сравнений в сущности означает последовательное проведение принципа историзма.
Но в одном случае сущность будет раскрываться на основе выявления сходств, в другом – различий. Соблюдение указанных условий исторических сравнений в сущности означает последовательное проведение принципа историзма.
Выявление существенности признаков, на основе которых должен проводиться историко-сравнительный анализ, а также типологии и стадиальности сравниваемых явлений чаще всего требует специальных исследовательских усилий и применения других общеисторических методов, прежде всего историко-типологического и историко-системного. В сочетании с этими методами историко-сравнительный метод является мощным средством в исторических исследованиях. Но и этот метод, естественно, имеет определенный диапазон наиболее эффективного действия. Это – прежде всего изучение общественно-исторического развития в широком пространственном и временном аспектах, а также тех менее широких явлений и процессов, суть которых не может быть раскрыта путем непосредственного анализа ввиду их сложности, противоречивости и незавершенности, а также пробелов в конкретно-исторических данных15.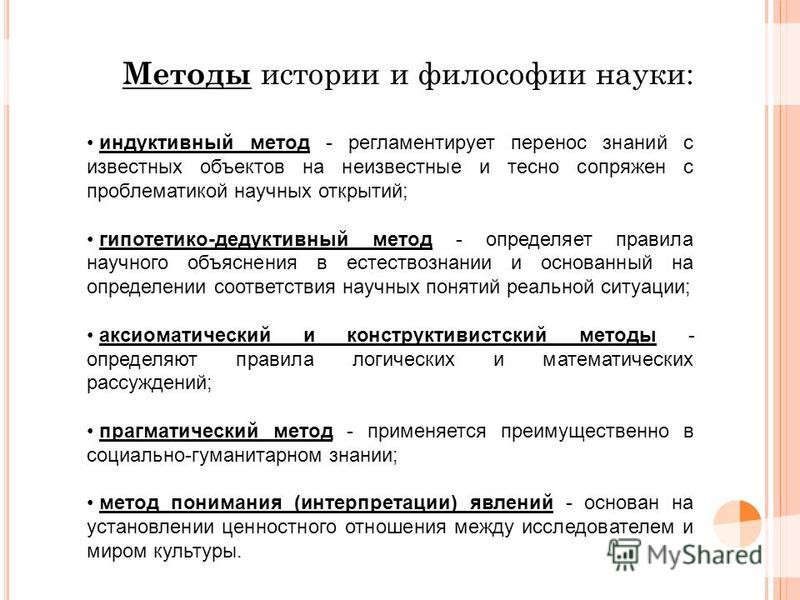
Историко-сравнительному методу присуща определенная ограниченность, следует иметь в виду и трудности его применения. Этот метод в целом не направлен на раскрытие рассматриваемой реальности. Посредством его познается, прежде всего, коренная сущность реальности во всем его многообразии, а не ее конкретная специфика. Сложно применение историко-сравнительного метода при изучении динамики общественных процессов. Формальное применение историко-сравнительного метода чревато ошибочными выводами и наблюдениями16.
Историко-типологический метод. И выявление общего в пространственно-единичном, и выделение стадиально-однородного в непрерывно-временном требуют особых познавательных средств. Таким средством является метод историко-типологического анализа. Типологизация как метод научного познания имеет своей целью разбиение (упорядочение) совокупности объектов или явлений на качественно определенные типы (классы) на основе присущих им общих существенных признаков. Типологизация, будучи по форме разновидностью классификации, является методом сущностного анализа17.
Типологизация, будучи по форме разновидностью классификации, является методом сущностного анализа17.
Выявление качественной определенности рассматриваемой совокупности объектов и явлений необходимо для выделения образующих эту совокупность типов, а знание сущностно-содержательной природы типов – непременное условие определения тех основных признаков, которые присущи этим типам и которые могут быть основой для конкретного типологического анализа, т.е. для раскрытия типологической структуры исследуемой реальности.
Принципы типологического метода могут быть эффективно применены только на основе дедуктивного подхода18. Он состоит в том, что соответствующие типы выделяются на основе теоретического сущностно-содержательного анализа рассматриваемой совокупности объектов. Итогом анализа должно быть не только определение качественно отличных типов, но и выявление тех конкретных признаков, которые характеризуют их качественную определенность.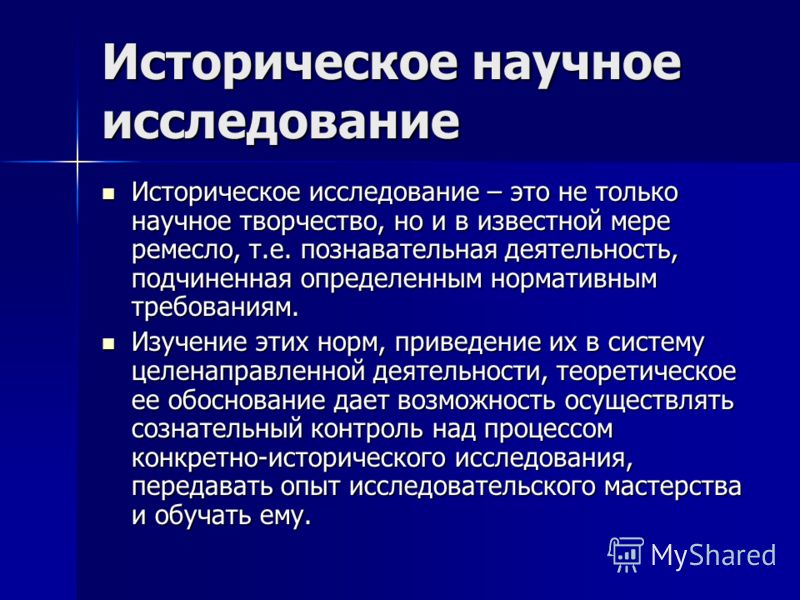 Это создает возможность для отнесения каждого отдельного объекта к тому или иному типу.
Это создает возможность для отнесения каждого отдельного объекта к тому или иному типу.
Отбор конкретных признаков для типологизации может быть многовариантным. Это диктует необходимость применения при типологизации как совмещенного дедуктивно-индуктивного, так и собственно индуктивного подхода. Суть дедуктивно-индуктивного подхода состоит в том, что типы объектов определяются на основе сущностно-содержательного анализа рассматриваемых явлений, а те существенные признаки, которые им присущи, — путем анализа эмпирических данных об этих объектах19.
Индуктивный подход отличается тем, что здесь и выделение типов и выявление их наиболее характерных признаков основывается на анализе эмпирических данных. Таким путем приходится идти в тех случаях, когда проявления единичного в особенном и особенного в общем многообразны и неустойчивы.
В познавательном плане наиболее эффективна такая типизация, которая позволяет не просто выделить соответствующие типы, но и установить как степень принадлежности объектов к этим типам, так и меру их сходства с другими типами.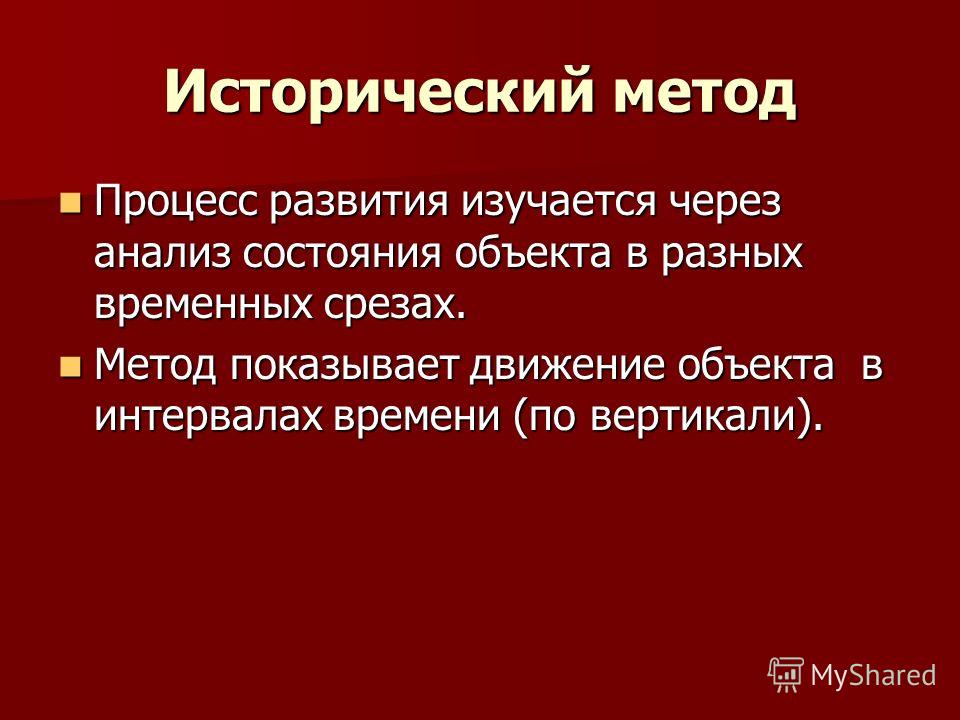 Для этого необходимы методы многомерной типологизации.
Для этого необходимы методы многомерной типологизации.
Его применение приносит наибольший научный эффект при исследовании однородных явлений и процессов, хотя сфера распространения метода ими не ограничена. В исследовании как однородных, так и разнородных типов одинаково важно, чтобы изучаемые объекты были соизмеримы по основному для данной типизации факту, по наиболее характерным признакам, лежащим в основе исторической типологии20.
Историко-системный метод базируется на системном подходе. Объективной основой системного подхода и метода научного познания является единство в общественно-историческом развитии единичного (индивидуального), особенного и общего. Реально и конкретно это единство и выступает в общественно-исторических системах разного уровня21.
Индивидуальные события обладают теми или иными только им свойственными чертами, которые не повторяются в других событиях. Но эти события образуют определенные виды и роды человеческой деятельности и отношений, а, следовательно, наряду с индивидуальными они имеют и общие черты и тем самым создают определенные совокупности со свойствами, выходящими за пределы индивидуального, т. е. определенные системы.
е. определенные системы.
Отдельные события включаются в общественные системы и через исторические ситуации. Историческая ситуация – это пространственно-временная совокупность событий, образующих качественно определенное состояние деятельности и отношений, т.е. это та же общественная система.
Наконец исторический процесс в своей временной протяженности имеет качественно отличные этапы или стадии, которые включают определенную совокупность событий и ситуаций, составляющих подсистемы в общей динамической системе общественного развития22.
Системный характер общественно-исторического развития означает, что все события, ситуации и процессы этого развития не только казуально обусловлены и имеют причинно-следственную связь, но также и функционально связаны. Функциональные связи как бы перекрывают связи причинно-следственные, с одной стороны, и имеют комплексный характер, с другой. На этом основании полагают, что в научном познании определяющее значение должно иметь не причинное, а структурно-функциональное объяснение23.
Системный подход и системные методы анализа, к которым относятся структурный и функциональный анализы, характеризуется целостностью и комплексностью. Изучаемая система рассматривается не со стороны ее отдельных аспектов и свойств, а как целостная качественная определенность с комплексным учетом как ее собственных основных черт, так и ее места и роли в иерархии систем. Однако для практической реализации этого анализа первоначально требуется вычленение исследуемой системы из органически единой иерархии систем. Эту процедуру называют декомпозицией систем. Она представляет сложный познавательный процесс, ибо нередко весьма сложно выделить определенную систему из единства систем24.
Вычленение системы должно проводиться на основе выявления совокупности объектов (элементов), обладающих качественной определенностью, выраженной не просто в тех или иных свойствах этих элементов, но и, прежде всего в присущих им отношениях, в характерной для них системе взаимосвязей. Вычленение исследуемой системы из иерархии систем должно быть обоснованным. При этом могут быть широко использованы методы историко-типологического анализа.
Вычленение исследуемой системы из иерархии систем должно быть обоснованным. При этом могут быть широко использованы методы историко-типологического анализа.
С точки зрения конкретно-содержательной, решение указанной задачи сводится к выявлению системообразующих (системных) признаков, присущих компонентам выделяемой системы.
После выделения соответствующей системы следует ее анализ как таковой. Центральным здесь является структурный анализ, т.е. выявление характера взаимосвязи компонентов системы и их свойств итогом структурно-системного анализа будут знания о системе как таковой. Эти знания имеют эмпирический характер, ибо они сами по себе не раскрывают сущностной природы выявленной структуры. Перевод полученных знаний на теоретический уровень требует выявления функций данной системы в иерархии систем, где она фигурирует в качестве подсистемы. Эта задача решается функциональным анализом, раскрывающим взаимодействие исследуемой системы с системами более высокого уровня25.
Только сочетание структурного и функционального анализа позволяет познать сущностно-содержательную природу системы во всей ее глубине. Системно-функциональный анализ дает возможность выявить, какие свойства окружающей среды, т.е. систем более высокого уровня, включающих в себя исследуемую систему как одну из подсистем, определяют сущностно-содержательную природу данной системы26.
Недостатком этого метода является применение его только при синхронном анализе, что чревато нераскрытием процесса развития. Другой недостаток – опасность чрезмерного абстрагирования – формализации изучаемой реальности.
Ретроспективный метод. Отличительной чертой этого метода является направленность от настоящего к прошлому, от следствия к причине. В своем содержании ретроспективный метод выступает, прежде всего, как прием реконструкции, позволяющий синтезировать, корректировать знания об общем характере развития явлений27.
Прием ретроспективного познания состоит в последовательном проникновении в прошлое с целью выявления причины данного события. Речь в данном случае идет о первопричине, прямо относящейся к этому событию, а не о его отдаленных исторических корнях. Ретро-анализ показывает, например, что первопричина отечественного бюрократизма состоит в советском партийно-государственном устройстве, хотя ее пытались находить и в николаевской России, и в петровских преобразованиях, и в приказной волоките Московского царства. Если при ретроспекции путь познания – это движение от настоящего к прошлому, то при построении исторического объяснения – от прошлого к настоящему в соответствии с принципом диахронии28.
Целый ряд специально-исторических методов связан с категорией исторического времени. Это методы актуализации, периодизации, синхронный и диахронный (или проблемно-хронологический).
Первый шаг в работе историка – составление хронологии. Второй шаг – это периодизация. Историк разрезает историю на периоды, заменяет неуловимую непрерывность времени некоей означающей структурой. Выявляются отношения прерывности и непрерывности: непрерывность имеет место внутри периодов, прерывность – между периодами.
Второй шаг – это периодизация. Историк разрезает историю на периоды, заменяет неуловимую непрерывность времени некоей означающей структурой. Выявляются отношения прерывности и непрерывности: непрерывность имеет место внутри периодов, прерывность – между периодами.
Периодизировать значит, таким образом, выявлять прерывность, нарушения преемственности, указывать на то, что именно меняется, датировать эти изменения и давать им предварительное определение. Периодизация занимается идентификацией преемственности и её нарушений. Она открывает путь интерпретации. Она делает историю если и не вполне доступной пониманию, то, по крайней мере, уже мыслимой.
Историк не занимается реконструкцией времени во всей его полноте для каждого нового исследования: он берёт то время, над которым уже работали другие историки, периодизация которого имеется. Поскольку задаваемый вопрос приобретает легитимность лишь в результате своей включённости в исследовательское поле, историк не может абстрагироваться от предшествующих периодизаций: ведь они составляют язык профессии.
Диахронический метод характерен для структурно-диахронического исследования, которое представляет собой особый вид исследовательской деятельности, когда решается задача выявления особенностей построения во времени разнообразных по природе процессов. Его специфика выявляется через сопоставление с синхронистическим подходом. Термины «диахрония» (разновременность) и «синхрония» (одновременность), введенные в языкознание швейцарским лингвистом Ф. де Соссюром, характеризует последовательность развития исторических явлений в некоторой области действительности (диахрония) и состояние этих явлений в определенный момент времени (синхрония)29.
Диахронический (разновременный) анализнаправлен на изучение сущностно-временных изменений исторической реальности. С его помощью можно ответить на вопросы о том, когда может наступить то или иное состояние в ходе изучаемого процесса, как долго оно будет сохраняться, сколько времени займет то или иное историческое событие, явление, процесс30.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Методы научного познания – это совокупность приемов, норм, правил и процедур, регулирующих научное исследование, и обеспечивающих решение исследовательской задачи. Научный метод – это способ поиска ответов на научно поставленные вопросы и одновременно способ постановки таких вопросов, сформулированных в виде научных проблем. Таким образом, научный метод – это способ добывания новой информации для решения научных проблем.
В основе истории как предмета и науки лежит историческая методология. Если во многих других научных дисциплинах существует два основных метода познания, а именно – наблюдение и эксперимент, то для истории доступен только первый метод. Даже несмотря на то, что каждый истинный ученый старается уменьшить до минимума воздействие на объект наблюдения, он все равно по-своему трактует увиденное. В зависимости от методологических походов, применяемых ученым, мир получает различные трактовки одного и того же события, разнообразные учения, школы и так далее.
Использование научных методов познания выделяет историческую науку в таких сферах как историческая память, историческое сознание и историческое познание, конечно при условии, что использование этих методов будет правильным.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
Барг М.А. Категории и методы исторической науки. — М., 1984
Бочаров А.В. Основные методы исторического исследования: Учебное пособие. — Томск: Томский государственный университет, 2006. 190 с.
Грушин Б.А. Очерки логики исторического исследования.-М., 1961
Иванов В.В. Методология исторической науки.- М., 1985
Мазур Л. Н. Методы исторического исследования : учебное пособие . – 2-е изд. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2010. – 608 с.
Розов Н.С. Теоретическая история как исследовательская программа: фундаментальные понятия и принципы.
 // Проблемы исторического познания. Материалы международной конференции. Москва 19-21 мая 1996 г. М.,1999.
// Проблемы исторического познания. Материалы международной конференции. Москва 19-21 мая 1996 г. М.,1999.
1 Мазур Л. Н. Методы исторического исследования : учебное пособие . — 2-е изд. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2010. — 608 с.
2 Бочаров А.В. Основные методы исторического исследования: Учебное пособие. — Томск: Томский государственный университет, 2006. 190 с
3 Бочаров А.В. Основные методы исторического исследования: Учебное пособие. — Томск: Томский государственный университет, 2006. 190 с
4 Бочаров А.В. Основные методы исторического исследования: Учебное пособие. — Томск: Томский государственный университет, 2006. 190 с
5 Бочаров А.В. Основные методы исторического исследования: Учебное пособие. — Томск: Томский государственный университет, 2006. 190 с
6 Мазур Л. Н. Методы исторического исследования : учебное пособие . — 2-е изд. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2010. — 608 с.
— 608 с.
7 Иванов В.В. Методология исторической науки.- М., 1985
8 Грушин Б.А. Очерки логики исторического исследования.-М., 1961
9 Барг М.А. Категории и методы исторической науки.-М., 1984
10 Барг М.А. Категории и методы исторической науки.-М., 1984
11 Розов Н.С. Теоретическая история как исследовательская программа: фундаментальные понятия и принципы. // Проблемы исторического познания. Материалы международной конференции. Москва 19-21 мая 1996 г. М.,1999.
12 Иванов В.В. Методология исторической науки.- М., 1985
13 Бочаров А.В. Основные методы исторического исследования: Учебное пособие. — Томск: Томский государственный университет, 2006. 190 с.
14 Бочаров А.В. Основные методы исторического исследования: Учебное пособие. — Томск: Томский государственный университет, 2006. 190 с.
15 Иванов В.В. Методология исторической науки.- М., 1985
16 Бочаров А. В. Основные методы исторического исследования: Учебное пособие. — Томск: Томский государственный университет, 2006. 190
В. Основные методы исторического исследования: Учебное пособие. — Томск: Томский государственный университет, 2006. 190
17 Бочаров А.В. Основные методы исторического исследования: Учебное пособие. — Томск: Томский государственный университет, 2006. 190
18 Бочаров А.В. Основные методы исторического исследования: Учебное пособие. — Томск: Томский государственный университет, 2006. 190
19 Иванов В.В. Методология исторической науки.- М., 1985
20 Иванов В.В. Методология исторической науки.- М., 1985
21 Мазур Л. Н. Методы исторического исследования : учебное пособие . — 2-е изд. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2010. — 608 с.
22 Мазур Л. Н. Методы исторического исследования : учебное пособие . — 2-е изд. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2010. — 608 с.
23 Розов Н.С. Теоретическая история как исследовательская программа: фундаментальные понятия и принципы. // Проблемы исторического познания. Материалы международной конференции. Москва 19-21 мая 1996 г. М.,1999.
Материалы международной конференции. Москва 19-21 мая 1996 г. М.,1999.
24 Барг М.А. Категории и методы исторической науки.-М., 1984
25 Барг М.А. Категории и методы исторической науки.-М., 1984
26 Бочаров А.В. Основные методы исторического исследования: Учебное пособие. — Томск: Томский государственный университет, 2006. 190 с
27 Бочаров А.В. Основные методы исторического исследования: Учебное пособие. — Томск: Томский государственный университет, 2006. 190 с
28 Грушин Б.А. Очерки логики исторического исследования.-М., 1961
29 Иванов В.В. Методология исторической науки.- М., 1985
30 Грушин Б.А. Очерки логики исторического исследования.-М., 1961
2. Методы исследования в биологии
Метод — это способ решения какой-нибудь задачи или проблемы.
Научный метод — это совокупность способов и действий, используемых для получения новых знаний и их обобщения.
Методы, универсальные для всех биологических наук: описательный, сравнительный, исторический и экспериментальный.
1. Описательный метод. В его основе лежит наблюдение. Этот метод использовали учёные древности, которые занимались сбором и изучением разных живых организмов; он применяется и в настоящее время (например, когда находят новый вид).
Наблюдение — метод, основанный на восприятии природных объектов с помощью органов чувств.
Можно просто наблюдать, например, за развитием растений. Можно для наблюдения за живыми организмами использовать специальные приборы (как при ежемесячном взвешивании и измерении роста грудного ребёнка). Наблюдать можно за сезонными изменениями в природе, за линькой животных и т. д. Выводы, сделанные наблюдателем, проверяются либо повторными наблюдениями, либо экспериментально.
2. Сравнительный метод стали применять в \(XVII\) в. Этот метод дал возможность систематизировать живые организмы на основе сравнения их внешнего и внутреннего строения.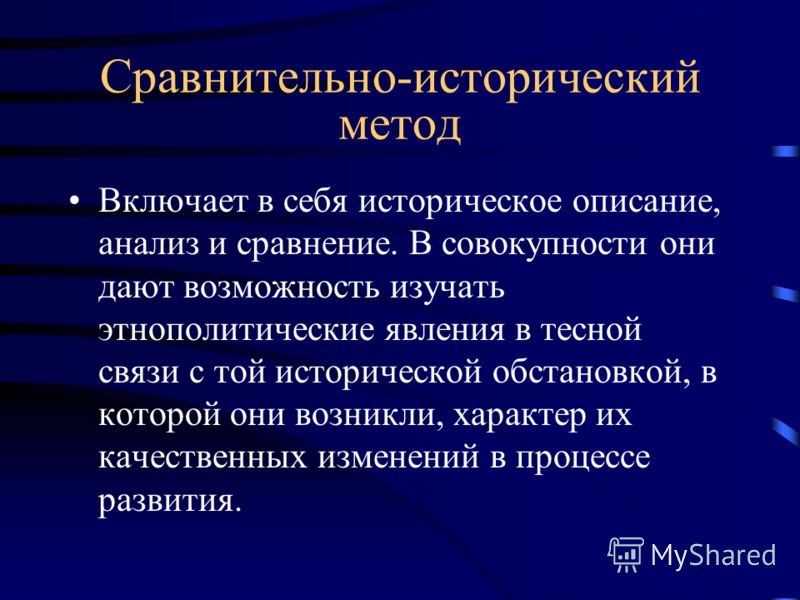 В современной науке сравнительный метод также находит широкое применение.
В современной науке сравнительный метод также находит широкое применение.
3. Исторический метод — это установление закономерностей возникновения и развития биологических процессов и явлений. В биологии этот метод начали использовать во второй половине \(XIX\) века. Исторический метод дал учёным-биологам возможность не только заниматься описанием биологических явлений, но и позволил объяснять происхождение и развитие живых систем.
4. Экспериментальный метод — это получение новых знаний (изучение явления) с помощью поставленного опыта (эксперимента).
Эксперимент — метод, при осуществлении которого исследователь создаёт определённые условия и определяет, какое влияние они оказывают на живые организмы.
Первым эксперимент применил Уильям Гарвей (\(1578\)–\(1657\) гг.) в работах по изучению кровообращения, а широко использовать этот метод биологи начали при изучении процессов жизнедеятельности в \(XIX\) в.
А Г. Мендель первым использовал эксперимент не только для установления фактов, но и для проверки гипотезы, сформулированной на основании полученных данных о наследовании некоторых признаков у растений.
Мендель первым использовал эксперимент не только для установления фактов, но и для проверки гипотезы, сформулированной на основании полученных данных о наследовании некоторых признаков у растений.
В \(XX\) в. появились приборы для исследования биологических объектов (электронный микроскоп, компьютерный томограф и др.), и экспериментальный метод стал ведущим при изучении живых объектов.
Моделирование, т. е. метод исследования, основанный на создании и изучении моделей, также находит применение в современной биологии. С помощью компьютерного моделирования изучаются механизмы и направление эволюции, закономерности развития экосистем и биосферы.
Биология состоит из большого числа частных наук, занимающихся изучением разных объектов: морфология, физиология, цитология, экология и т. д. Поэтому наряду с общебиологическими методами выделяют методы, которые используются частными биологическими науками: генетика — близнецовый метод, селекция — метод индуцированного мутагенеза, молекулярная биология — рентгеноструктурный анализ и т. д.
д.
Научный факт — это форма научного знания, в которой фиксируется конкретное явление или событие; результат наблюдений и экспериментов, устанавливающий характеристики объектов.
Гипотеза — предположение (утверждение), для которого требуется доказательство.
Теория — обобщённое учение, объединяющее результаты наблюдений и исследований в единое целое.
| Число публикаций на elibrary.ru | 15725 | |
| Число публикаций организации в РИНЦ | 14094 | |
| Число цитирований публикаций на elibrary.ru | 130510 | |
| Число цитирований публикаций организации в РИНЦ | 111667 | |
| Число авторов | 401 | |
| Число авторов, зарегистрированных в Science Index | 216 | |
Индекс Хирша по всем публикациям на elibrary. ru ru | 157 | |
| Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ | 146 | |
| g-индекс | 215 | |
| i-индекс | 18 | |
Позиция в рейтинге российских научно-исследовательских организаций по индексу Хирша | 43 | |
| Позиция по КПБР (Комплексный балл публикационной результативности) по направлению «Гуманитарные науки» за 2020 г. | 10 |
История научного метода
Средневековье , примерно с 500 по 1100 г. н.э., характеризовалось общей эрозией цивилизации. Знания древних римлян сохранились лишь в нескольких монастырях и соборных и дворцовых школах, тогда как знания древней Греции почти полностью исчезли.
н.э., характеризовалось общей эрозией цивилизации. Знания древних римлян сохранились лишь в нескольких монастырях и соборных и дворцовых школах, тогда как знания древней Греции почти полностью исчезли.
С самого начала Средневековья и почти столетие спустя не было почти никаких важных научных достижений. Католическая церковь стала очень могущественной в Европе, и религиозные догмы управляли большей частью того, что люди думали и во что верили.Те, чьи убеждения или обычаи отклонялись от церкви, были «реабилитированы» и возвращены в лоно церкви. Сопротивление часто приводило к преследованиям.
Затем, в то, что сейчас известно как Ренессанс 12-го века, наступил период пробуждения. По мере того как европейские ученые знакомились со знаниями и культурами, культивируемыми в исламском мире и других регионах за их пределами, они заново знакомились с работами древних ученых, таких как Аристотель, Птолемей и Евклид.Это обеспечило общую платформу и словарный запас для создания расширенного научного сообщества, которое могло бы делиться идеями и вдохновлять на творческое решение проблем.
Некоторые из важных мыслителей, появившихся во время и после эпохи Возрождения, включают:
- Альберт Великий (1193-1250) и Фома Аквинский (1225-1274), два исследователя схоластики , философской системы использование разума в исследовании вопросов философии и богословия.Магнус проводил различие между открытой истиной (открытие чего-то неизвестного через божественную силу) и экспериментальной наукой и сделал много научных наблюдений в астрономии, химии, географии и физиологии.
- Роджер Бэкон (ок. 1210-ок. 1293), английский монах-францисканец, философ, ученый и ученый, призывавший положить конец слепому принятию общепринятых писаний. В частности, он нацелился на идеи Аристотеля, которые, хотя и были ценными, часто принимались как факт, даже если доказательства их не подтверждали.
- Фрэнсис Бэкон (1561-1626), успешный юрист и влиятельный философ, много сделавший для реформирования научного мышления. В своем «Instauratio Magna» Бэкон предложил новый подход к научным исследованиям, который он опубликовал в 1621 году под названием «Novum Organum Scientiarum».
 Этот новый подход отстаивал индуктивное рассуждение как основу научного мышления. Бэкон также утверждал, что только четкая система научных исследований может обеспечить господство человека над миром.
Этот новый подход отстаивал индуктивное рассуждение как основу научного мышления. Бэкон также утверждал, что только четкая система научных исследований может обеспечить господство человека над миром.
Фрэнсис Бэкон был первым, кто формализовал понятие истинного научного метода, но он сделал это не в вакууме.Работы Николая Коперника (1473-1543) и Галилея Галилея (1564-1642) оказали огромное влияние на Бэкона. Коперник на основании своих наблюдений предположил, что планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца, а не Земли. Галилей смог подтвердить эту центрированную на Солнце структуру, когда использовал телескоп, который он сконструировал для сбора данных, среди прочего, о спутниках Юпитера и фазах Венеры. Однако самым большим вкладом Галилея, возможно, было его систематическое изучение движения, основанное на простых математических описаниях.
Ко времени смерти Галилея все было готово для настоящей революции в научном мышлении. Исаак Ньютон (1642-1727) много сделал для развития этой революции. Работа Ньютона в области математики привела к интегральному и дифференциальному исчислению. Его работа в области астрономии помогла определить законы движения и всемирного тяготения. А его исследования в области оптики привели к созданию первого телескопа-рефлектора. Общей темой, пронизывающей все работы Ньютона, была сверхъестественная способность разрабатывать несколько относительно простых концепций и уравнений, обладающих огромной предсказательной силой.Его единые системы законов выдержали века испытаний и проверок и продолжают позволять ученым исследовать непрекращающиеся загадки физики и астрономии.
Работа Ньютона в области математики привела к интегральному и дифференциальному исчислению. Его работа в области астрономии помогла определить законы движения и всемирного тяготения. А его исследования в области оптики привели к созданию первого телескопа-рефлектора. Общей темой, пронизывающей все работы Ньютона, была сверхъестественная способность разрабатывать несколько относительно простых концепций и уравнений, обладающих огромной предсказательной силой.Его единые системы законов выдержали века испытаний и проверок и продолжают позволять ученым исследовать непрекращающиеся загадки физики и астрономии.
Можно с уверенностью сказать, что период карьеры Ньютона знаменует собой начало современной науки. На заре 19 века наука утвердилась как независимая и уважаемая область исследования, а научный метод, основанный на наблюдении и тестировании, получил распространение во всем мире. Классический пример того, как наука превратилась в совместную деятельность, ведущую к увеличению знаний, можно найти в разработке того, что мы знаем сегодня как клеточная теория .
Научный метод на протяжении всей истории
ЛЕТНЯЯ СЕРИЯ: КАК РАБОТАЕТ НАУКА. Взгляд в прошлое может помочь нам лучше понять работу современной науки. Жером Бодри, профессор Колледжа гуманитарных наук EPFL, объясняет, как со временем изменились процедуры доказательства и сообщения научных результатов.
Мы часто слышим, как люди говорят о «научном методе» как о высшей гарантии строгости экспериментальных исследований, но что именно он влечет за собой? Действительно ли существует единый метод, применимый ко всем областям науки? Как различные научные сообщества согласовали общие определения доказательства и знания, чтобы обеспечить кумулятивное обучение? Жером Бодри, штатный доцент и руководитель Лаборатории истории науки и техники, рассказывает нам больше.
Как историк, как вы понимаете научный метод?
Как историк, первое, что я могу сказать, это то, что, хотя кажется, что термин «научный метод» существует всегда, на самом деле он появился совсем недавно. В своей книге 2020 года «Научный метод: эволюция мышления от Дарвина до Дьюи » американский историк науки Генри М. Коулз рассказал о том, как это выражение появилось примерно в начале 20 века.Фактически, этот лозунг был придуман не учеными, а людьми, которые хотели отстаивать авторитет науки. Термин «научный метод» впервые получил распространение в Соединенных Штатах и использовался среди людей, работающих в области популярной науки, образования и научного менеджмента, также известного как тейлоризм. Люди обычно думают о научном методе как о строгом списке или последовательности правил и шагов, таких как наблюдение, гипотеза, предсказание, эксперимент и подтверждение, которым вы должны следовать, если хотите заниматься наукой «правильным путем».Однако, хотя это и не совсем неправильно, просто смотреть на это как на список — это настоящая медвежья услуга для научной деятельности!
В своей книге 2020 года «Научный метод: эволюция мышления от Дарвина до Дьюи » американский историк науки Генри М. Коулз рассказал о том, как это выражение появилось примерно в начале 20 века.Фактически, этот лозунг был придуман не учеными, а людьми, которые хотели отстаивать авторитет науки. Термин «научный метод» впервые получил распространение в Соединенных Штатах и использовался среди людей, работающих в области популярной науки, образования и научного менеджмента, также известного как тейлоризм. Люди обычно думают о научном методе как о строгом списке или последовательности правил и шагов, таких как наблюдение, гипотеза, предсказание, эксперимент и подтверждение, которым вы должны следовать, если хотите заниматься наукой «правильным путем».Однако, хотя это и не совсем неправильно, просто смотреть на это как на список — это настоящая медвежья услуга для научной деятельности!
Так как же выйти за рамки этого упрощенного представления?
Ну, во-первых, мы должны быть уверены, что все мы одинаково понимаем, что такое «научный метод». Есть одно ключевое различие, которое, как мне кажется, здесь полезно: это различие между контекстом открытия и контекстом обоснования, которое было предложено немецким инженером и философом Гансом Райхенбахом в его книге 1938 года « Опыт и предсказание ».Контекст открытия описывает, как ученый приходит к данному результату. Это требует ряда когнитивных процессов или инструментов, таких как наблюдение, гипотеза и экспериментирование, но также включает в себя интерпретацию, сравнение, формализацию, аналогию, визуализацию и так далее. Контекст обоснования, с другой стороны, относится к тому, как ученый представляет свое открытие и сообщает о нем другим ученым, а также к тому, как в процессе общения другие определяют, является ли этот результат достоверным.
Есть одно ключевое различие, которое, как мне кажется, здесь полезно: это различие между контекстом открытия и контекстом обоснования, которое было предложено немецким инженером и философом Гансом Райхенбахом в его книге 1938 года « Опыт и предсказание ».Контекст открытия описывает, как ученый приходит к данному результату. Это требует ряда когнитивных процессов или инструментов, таких как наблюдение, гипотеза и экспериментирование, но также включает в себя интерпретацию, сравнение, формализацию, аналогию, визуализацию и так далее. Контекст обоснования, с другой стороны, относится к тому, как ученый представляет свое открытие и сообщает о нем другим ученым, а также к тому, как в процессе общения другие определяют, является ли этот результат достоверным.
Как научные процедуры меняются между контекстом открытия и контекстом обоснования?
Что касается контекста открытия, я не думаю, что существует какой-то один-единственный метод или готовая формула. Какие научные процессы являются релевантными, зависит от дисциплины, эпохи, группы, выполняющей работу — это может быть один ученый или глобальная сеть из сотен или даже тысяч ученых — и даже отдельных личностей.Мы не должны забывать, что в контексте открытия научное исследование связано с исследованием и созданием. Другое дело контекст оправдания. Когда ученый или группа ученых обнаруживает новый или обновленный результат, как добиться того, чтобы научное сообщество в целом признало его открытием? Это уводит нас в область социологии, а не психологии. Существуют определенные ценности и стандарты, разделяемые учеными с точки зрения сообщения и подтверждения открытий, и эти ценности кристаллизуются в таких институтах, как обзоры, конференции, научные общества и т. д.
Какие научные процессы являются релевантными, зависит от дисциплины, эпохи, группы, выполняющей работу — это может быть один ученый или глобальная сеть из сотен или даже тысяч ученых — и даже отдельных личностей.Мы не должны забывать, что в контексте открытия научное исследование связано с исследованием и созданием. Другое дело контекст оправдания. Когда ученый или группа ученых обнаруживает новый или обновленный результат, как добиться того, чтобы научное сообщество в целом признало его открытием? Это уводит нас в область социологии, а не психологии. Существуют определенные ценности и стандарты, разделяемые учеными с точки зрения сообщения и подтверждения открытий, и эти ценности кристаллизуются в таких институтах, как обзоры, конференции, научные общества и т. д.
Что вы считаете самым большим поворотным моментом в истории научного метода?
Одним из ключевых моментов в развитии научного метода было развитие экспериментальной науки в 17-18 веках. В частности, если вы посмотрите на это через призму контекста обоснования, экспериментальная наука поставила некоторые серьезные проблемы с точки зрения достоверности, воспроизводимости и уровня достоверности научных результатов.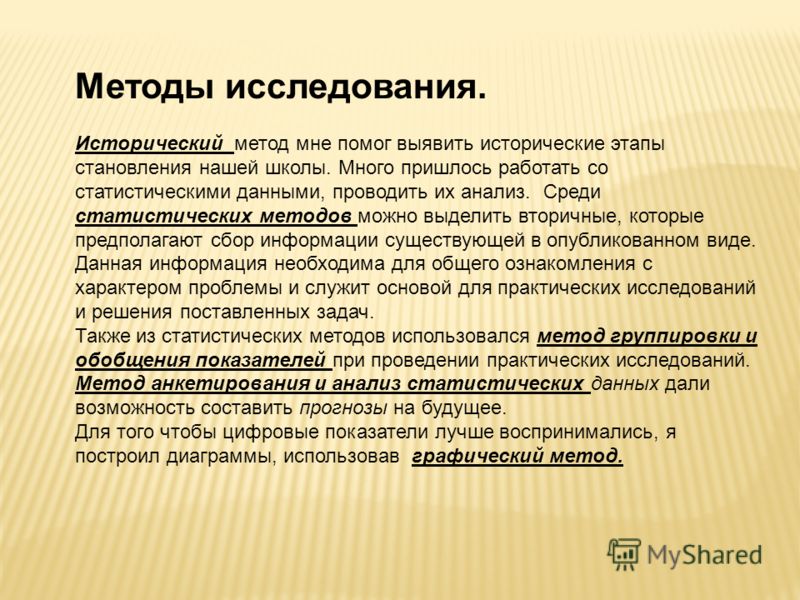 Когда отрасль науки имеет дело с демонстративным знанием, например, с математикой, чтобы узнать, верно ли что-то, вам просто нужно прочитать математическое доказательство — хотя я понимаю, что это звучит проще, чем есть на самом деле! Проблема с экспериментальными науками заключается в том, что эксперименты должны проводиться в определенном месте и при определенных условиях, а это означает, что, возможно, только горстка людей сможет непосредственно следить за ними.Они также часто используют специальное оборудование и методы, а также специальные ноу-хау, которые не могут быть легко переданы, что затрудняет их воспроизведение. Учитывая все это, мы должны спросить себя, как мы можем получить окончательные факты и как мы можем быть уверены, что результаты заслуживают доверия?
Когда отрасль науки имеет дело с демонстративным знанием, например, с математикой, чтобы узнать, верно ли что-то, вам просто нужно прочитать математическое доказательство — хотя я понимаю, что это звучит проще, чем есть на самом деле! Проблема с экспериментальными науками заключается в том, что эксперименты должны проводиться в определенном месте и при определенных условиях, а это означает, что, возможно, только горстка людей сможет непосредственно следить за ними.Они также часто используют специальное оборудование и методы, а также специальные ноу-хау, которые не могут быть легко переданы, что затрудняет их воспроизведение. Учитывая все это, мы должны спросить себя, как мы можем получить окончательные факты и как мы можем быть уверены, что результаты заслуживают доверия?
Какие методы и институты ученые разработали за эти годы для поддержки экспериментальной науки?
Существует ряд практик и институтов, но одним из примеров является «литературная технология» — если использовать термин, придуманный историком науки Стивеном Шапином, — который относится к тому, как записываются эксперименты. Чтобы закрепить за собой экспериментальную науку в 17 веке, ученые придумали совершенно новый способ сообщения о науке, чтобы создать иллюзию того, что читатель участвует в эксперименте из первых рук. Многословие, подробные описания, использование изображений и устранение личной точки зрения — создавая ощущение, что говорит сама природа, — стали частью научной коммуникации, возникшей в этот период. Другим примером является «социальная технология», связанная с основанием научных обществ, таких как Королевское общество, основанное в Лондоне в 1660 году, и Королевская академия наук, основанная в Париже в 1666 году.Эти учреждения создали среду, в которой экспериментальная наука могла практиковаться и публично обсуждаться, переместив ее из секретных частных лабораторий в собрание научных коллег и создав подлинное научное сообщество.
Чтобы закрепить за собой экспериментальную науку в 17 веке, ученые придумали совершенно новый способ сообщения о науке, чтобы создать иллюзию того, что читатель участвует в эксперименте из первых рук. Многословие, подробные описания, использование изображений и устранение личной точки зрения — создавая ощущение, что говорит сама природа, — стали частью научной коммуникации, возникшей в этот период. Другим примером является «социальная технология», связанная с основанием научных обществ, таких как Королевское общество, основанное в Лондоне в 1660 году, и Королевская академия наук, основанная в Париже в 1666 году.Эти учреждения создали среду, в которой экспериментальная наука могла практиковаться и публично обсуждаться, переместив ее из секретных частных лабораторий в собрание научных коллег и создав подлинное научное сообщество.
Опираясь на историю, как, по вашему мнению, изменятся научные исследования в будущем?
Я историк, а не пророк! Тем не менее, интересно отметить, что многие нынешние споры на самом деле перекликаются с теми, что были в прошлом. Например, споры о честности и научном мошенничестве или о недостатках системы рецензирования ведутся уже давно.Что касается этих вопросов, я думаю, что цифровые технологии предлагают нам некоторые возможности, которые еще не полностью изучены. От платформы предварительной публикации arXiv.org до нынешнего движения за открытый доступ и испытаний с открытым рецензированием — существует множество способов сделать научные исследования более эффективными, прозрачными и доступными. Все начало меняться, но нам нужно двигаться быстрее и идти дальше!
Например, споры о честности и научном мошенничестве или о недостатках системы рецензирования ведутся уже давно.Что касается этих вопросов, я думаю, что цифровые технологии предлагают нам некоторые возможности, которые еще не полностью изучены. От платформы предварительной публикации arXiv.org до нынешнего движения за открытый доступ и испытаний с открытым рецензированием — существует множество способов сделать научные исследования более эффективными, прозрачными и доступными. Все начало меняться, но нам нужно двигаться быстрее и идти дальше!
Научный метод – Введение в историю и философию науки
Введение
В предыдущей главе мы установили, что все синтетические суждения ошибочны.Мы обсудили три основные причины — три проблемы, объясняющие, почему не может быть абсолютно определенных синтетических утверждений. Но поскольку по определению все эмпирические теории содержат синтетические утверждения, ни одна эмпирическая теория не может быть доказана вне всяких разумных сомнений. Тем не менее, несмотря на тот факт, что все эмпирические теории ошибочны, мы, кажется, верим, что некоторые эмпирические теории лучше других. Например, сегодня мы не думаем, что аристотелевская физика так же хороша, как ньютоновская, так же как мы не думаем, что сама ньютоновская физика так же хороша, как наша современная физика.Мы не преподаем аристотелевскую физику как лучшее доступное описание физических процессов; если мы преподаем ее, то делаем это из исторического интереса, а не как общепринятую физическую теорию. Мы представляем общую теорию относительности и квантовую физику как наилучшие доступные описания физических процессов. Возникает вопрос:
Тем не менее, несмотря на тот факт, что все эмпирические теории ошибочны, мы, кажется, верим, что некоторые эмпирические теории лучше других. Например, сегодня мы не думаем, что аристотелевская физика так же хороша, как ньютоновская, так же как мы не думаем, что сама ньютоновская физика так же хороша, как наша современная физика.Мы не преподаем аристотелевскую физику как лучшее доступное описание физических процессов; если мы преподаем ее, то делаем это из исторического интереса, а не как общепринятую физическую теорию. Мы представляем общую теорию относительности и квантовую физику как наилучшие доступные описания физических процессов. Возникает вопрос:
Если ни одна эмпирическая теория не является абсолютно истинной, то почему мы думаем, что наши нынешние теории лучше, чем теории прошлого?
Другими словами:
Как мы решаем, какие теории должны быть приняты?
Это центральный вопрос этой главы.Но прежде чем мы перейдем к самому вопросу, нужно уточнить, что мы подразумеваем под приемкой .
Принятие, использование и преследование
Сообщество может занять как минимум три различных эпистемических позиции по отношению к теории – принятие , использование и преследование . Говорят, что теория считается принятой , если она принимается как наилучшее доступное описание своего объекта. Напротив, говорят, что теория 90 058 используется 90 059, если она рассматривается как адекватный инструмент для практического применения.Наконец, говорят, что теория преследуется , если считается, что она достойна дальнейшего развития. Вот соответствующие определения:
Давайте подробнее рассмотрим каждую из этих стоек по отдельности.
Когда мы говорим, что теория принята сообществом, мы имеем в виду, что сообщество рассматривает теорию как наилучшее доступное описание любых объектов, которые она пытается описать. Разные науки имеют дело с разными типами объектов. Исследуемый объект может быть естественным (т. г. физические, химические или биологические процессы), социальные (например, демографические, политические или экономические процессы) или формальные (например, математические или логические отношения). Для каждого из этих объектов у нас, в принципе, может быть теория, которую мы принимаем как обеспечивающую наилучшее доступное описание этого объекта. Именно в этом смысле мы в настоящее время принимаем стандартную модель физики элементарных частиц как наилучшую доступную классификацию субатомных частиц. Точно так же мы принимаем современный эволюционный синтез как наилучшее доступное описание процесса биологической эволюции.По определению, научная мозаика сообщества состоит из всех теорий , принятых этим сообществом.
г. физические, химические или биологические процессы), социальные (например, демографические, политические или экономические процессы) или формальные (например, математические или логические отношения). Для каждого из этих объектов у нас, в принципе, может быть теория, которую мы принимаем как обеспечивающую наилучшее доступное описание этого объекта. Именно в этом смысле мы в настоящее время принимаем стандартную модель физики элементарных частиц как наилучшую доступную классификацию субатомных частиц. Точно так же мы принимаем современный эволюционный синтез как наилучшее доступное описание процесса биологической эволюции.По определению, научная мозаика сообщества состоит из всех теорий , принятых этим сообществом.
Важно отметить, что принять теорию не обязательно означает считать ее абсолютно верной. Да, исторически было много сообществ, которые считали принятые ими теории абсолютно верными, но это ни в коем случае не требуется. Любое фаллибилистское сообщество, включая наше современное научное сообщество, принимает теории только как лучшие на рынке, а не как безошибочно верные.
Любое фаллибилистское сообщество, включая наше современное научное сообщество, принимает теории только как лучшие на рынке, а не как безошибочно верные.
Теперь принятие не следует путать с использование . Теория считается полезной , когда мы находим практическое применение теории. Теория может быть использована в физической инженерии , такой как строительство мостов, космических кораблей или планшетов. Теория также может быть использована в социальной инженерии, например, для обеспечения победы определенной политической партии на выборах или для обеспечения стабильного дохода владельца малого бизнеса.В любом случае используемая теория может быть принята или не принята сообществом в качестве наилучшего доступного описания ее объекта. Можно принять одну теорию, но использовать на практике другую неприемлемую теорию. Нынешний статус классической физики является лучшей иллюстрацией этого положения. Хотя классическая физика больше не считается лучшим доступным описанием своего объекта, она по-прежнему используется в явном большинстве технологических приложений. Например, когда задача состоит в том, чтобы построить мост, мы, скорее всего, будем использовать уравнения классической физики, а не общей теории относительности, потому что они намного проще.Конечно, одна и та же теория может быть и принятой , и использованной , но одно не влечет за собой другое. Не обязательно верить в то, что теория является наилучшим доступным описанием своего объекта, чтобы считать ее полезной.
Например, когда задача состоит в том, чтобы построить мост, мы, скорее всего, будем использовать уравнения классической физики, а не общей теории относительности, потому что они намного проще.Конечно, одна и та же теория может быть и принятой , и использованной , но одно не влечет за собой другое. Не обязательно верить в то, что теория является наилучшим доступным описанием своего объекта, чтобы считать ее полезной.
Наконец, прием и использование не следует путать с преследование . Мы говорим, что теория преследуется , если мы видим какие-то перспективы в ее развитии и работаем над ее разработкой. Мы часто преследуем идеи, далекие от приемлемых или полезных, потому что верим, что однажды они могут стать таковыми.В науке такое происходит постоянно. Например, ни одна современная физическая теория не объясняет все частицы и фундаментальные силы природы. Физики пытаются сделать это, разрабатывая различные теории суперструн , которые объясняют фундаментальные силы и частицы как колебания струн, намного меньших, чем субатомные частицы. Однако понятно, что ни одна из этих преследуемых теорий в настоящее время не принята. Ученые развивают эти теории в надежде, что однажды они могут быть приняты.Важно отметить, что изучаемая теория не обязательно является принятой или полезной. Верно и обратное: мы можем принять теорию как наилучшее доступное описание ее объекта, не беря на себя обязательств по дальнейшему развитию этой теории.
Однако понятно, что ни одна из этих преследуемых теорий в настоящее время не принята. Ученые развивают эти теории в надежде, что однажды они могут быть приняты.Важно отметить, что изучаемая теория не обязательно является принятой или полезной. Верно и обратное: мы можем принять теорию как наилучшее доступное описание ее объекта, не беря на себя обязательств по дальнейшему развитию этой теории.
Каждая из этих трех позиций также имеет свое отрицание. Противоположностью использования является неиспользование или неиспользование : когда мы думаем, что теория не очень полезна в конкретном приложении, мы говорим, что она бесполезна в этом отношении, и в результате она остается неиспользованной .Противоположностью преследованию является пренебрежение : когда никто не работает над разработкой теории, мы говорим, что ею пренебрегают. Противоположностью принятия является неприятие : когда мы не думаем, что теория является наилучшим доступным описанием своего объекта, мы говорим, что теория неприемлема . Важно отметить, что мы не должны путать непринятие с отклонением , поскольку для того, чтобы быть отвергнутой, теория должна быть ранее принята в мозаике.Напротив, теория может оставаться неприемлемой, так и не будучи принятой. Возьмем, к примеру, М-теорию (разновидность теории струн): в настоящее время она неприемлема, но нельзя сказать, что она была отвергнута, поскольку изначально она никогда не принималась. С другой стороны, теория флогистона, когда-то принятая химическая теория, была отвергнута более двух столетий назад и в настоящее время не принята. Вот три позиции с соответствующими отрицаниями:
Важно отметить, что мы не должны путать непринятие с отклонением , поскольку для того, чтобы быть отвергнутой, теория должна быть ранее принята в мозаике.Напротив, теория может оставаться неприемлемой, так и не будучи принятой. Возьмем, к примеру, М-теорию (разновидность теории струн): в настоящее время она неприемлема, но нельзя сказать, что она была отвергнута, поскольку изначально она никогда не принималась. С другой стороны, теория флогистона, когда-то принятая химическая теория, была отвергнута более двух столетий назад и в настоящее время не принята. Вот три позиции с соответствующими отрицаниями:
Короче говоря, возможно принять одну теорию, использовать другую теорию на практике и в то же время следовать какой-то другой многообещающей теории.Имейте в виду, что эти позиции не исключают друг друга: одна и та же теория может применяться, использоваться и приниматься одновременно. Например, можно развивать уже принятую теорию, пытаясь применить ее к ранее необъяснимым явлениям. Таким образом, теория всемирного тяготения Ньютона уже была принята, когда астрономы продолжали ее развивать и успешно предсказали существование Урана по аномалиям на орбитах других планет. Также возможно использовать и следовать одной и той же теории, не принимая ее, а также использовать и принимать теорию, не развивая ее.Возможна любая комбинация этих трех позиций.
Таким образом, теория всемирного тяготения Ньютона уже была принята, когда астрономы продолжали ее развивать и успешно предсказали существование Урана по аномалиям на орбитах других планет. Также возможно использовать и следовать одной и той же теории, не принимая ее, а также использовать и принимать теорию, не развивая ее.Возможна любая комбинация этих трех позиций.
В то время как очень интересно проследить изменения как в используемых, так и в разрабатываемых теориях, вопрос о том, как и почему ученые приходят к принятию своих теорий, кажется наиболее интригующим. Отчасти это связано с тем, что когда мы приобретаем новую полезную теорию, мы часто также продолжаем использовать наши предыдущие теории; можно использовать ряд несовместимых теорий даже в рамках одного и того же практического приложения. Например, можно использовать как астрономию Птолемея, так и астрономию Коперника, чтобы рассчитать положение различных планет в заданное время.То же самое относится и к поиску: ученые обычно одновременно исследуют множество различных конкурирующих теорий. Любая область науки полна примеров этого явления. Принятие, однако отличается; поскольку мы принимаем только лучшие из доступных теорий. Две несовместимые теории могут быть одновременно использованы , преследованы , но не приняты ; одновременно могут быть приняты только и одно конкурирующих описаний. Например, невозможно поверить, что Земля одновременно плоская и сферическая.Важно отметить, что только принятые теории составляют научную мозаику сообщества. Таким образом, центральный вопрос этой главы заключается в том, как ученые решают, какие теории являются лучшими доступными описаниями мира, т. е. какие теории следует принять.
Любая область науки полна примеров этого явления. Принятие, однако отличается; поскольку мы принимаем только лучшие из доступных теорий. Две несовместимые теории могут быть одновременно использованы , преследованы , но не приняты ; одновременно могут быть приняты только и одно конкурирующих описаний. Например, невозможно поверить, что Земля одновременно плоская и сферическая.Важно отметить, что только принятые теории составляют научную мозаику сообщества. Таким образом, центральный вопрос этой главы заключается в том, как ученые решают, какие теории являются лучшими доступными описаниями мира, т. е. какие теории следует принять.
Метод
Итак, как мы решаем, приемлема теория или нет? Как мы можем сказать, что она лучшая среди множества конкурирующих теорий? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны посмотреть, как научные сообщества оценивают теории.
Предположим, мы возьмем пару конкурирующих эмпирических теорий, пытающихся описать один и тот же объект. Предположим, что одна из этих теорий в настоящее время считается лучшим описанием своего объекта, а другая теория рассматривается как конкурирующая теория, которая потенциально может заменить принятую теорию в качестве наилучшего доступного описания. Итак, что нужно сделать, чтобы конкурирующая теория стала принятой и заменила ранее принятую теорию в мозаике? Поскольку мы имеем дело с эмпирическими теориями, скорее всего, нам потребуются некоторые доказательства, т.е.е. некоторые результаты наблюдений и экспериментов, чтобы помочь нам решить, действительно ли конкурирующая теория лучше, чем теория, которую мы принимаем в настоящее время. Однако одних доказательств будет недостаточно. Нам также понадобится некоторый набор из правил для оценки теории , некоторые критериев , которым новая теория должна удовлетворять, чтобы быть принятой. Другими словами, нам понадобится некий метод оценки теории. Метод определяется как набор требований (критериев, правил, стандартов и т.
Предположим, что одна из этих теорий в настоящее время считается лучшим описанием своего объекта, а другая теория рассматривается как конкурирующая теория, которая потенциально может заменить принятую теорию в качестве наилучшего доступного описания. Итак, что нужно сделать, чтобы конкурирующая теория стала принятой и заменила ранее принятую теорию в мозаике? Поскольку мы имеем дело с эмпирическими теориями, скорее всего, нам потребуются некоторые доказательства, т.е.е. некоторые результаты наблюдений и экспериментов, чтобы помочь нам решить, действительно ли конкурирующая теория лучше, чем теория, которую мы принимаем в настоящее время. Однако одних доказательств будет недостаточно. Нам также понадобится некоторый набор из правил для оценки теории , некоторые критериев , которым новая теория должна удовлетворять, чтобы быть принятой. Другими словами, нам понадобится некий метод оценки теории. Метод определяется как набор требований (критериев, правил, стандартов и т. ) для занятий по теории оценка (оценка, оценка, сравнение и т.д.):
) для занятий по теории оценка (оценка, оценка, сравнение и т.д.):
Вот несколько примеров методов:
Теория приемлема, если она проще своих конкурентов.
Теория приемлема, если она решает больше проблем, чем ее конкуренты.
Теория приемлема, если с учетом имеющихся данных она является наиболее вероятной среди конкурентов.
Теория приемлема, если она объясняет все, что объясняется ранее принятой теорией, а также подтверждает новые предсказания.
Имейте в виду, что это всего лишь примеры возможных критериев; на данном этапе мы не рассматривали, какие методы ученые на самом деле используют при оценке теорий. Прежде чем мы приступим к объяснению критериев, которые ученые фактически используют при оценке теории, нам необходимо сделать два важных пояснения.
Во-первых, важно не путать методов с методологиями . Мы определяем методологию как набор открыто прописанных правил оценки теории:
Большинство сообществ имеют некоторое представление о том, как именно, по их мнению, должна выглядеть приемлемая теория.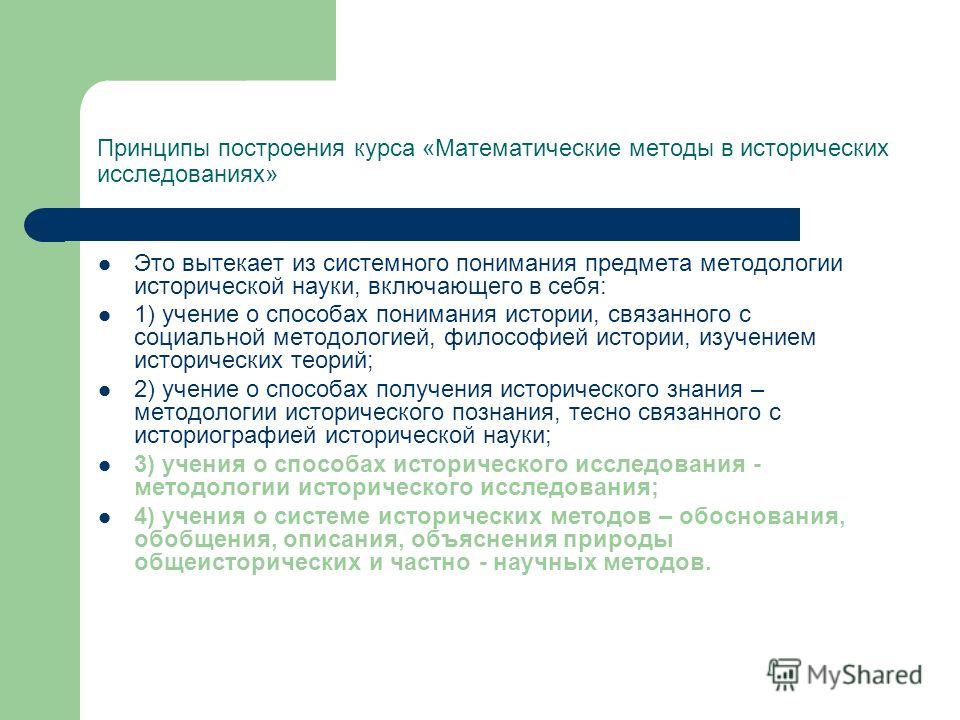 Многие сообщества открыто заявляют о своих требованиях относительно новых теорий в своей области. Это то, что мы называем методологией ; эти методологии обычно прямо изложены в учебниках, энциклопедиях и руководствах по исследованиям. Но должно быть очевидно, что правила, открыто предписанные сообществом, могут совпадать, а могут и не совпадать с правилами, фактически используемыми этим сообществом при теоретической оценке.
Многие сообщества открыто заявляют о своих требованиях относительно новых теорий в своей области. Это то, что мы называем методологией ; эти методологии обычно прямо изложены в учебниках, энциклопедиях и руководствах по исследованиям. Но должно быть очевидно, что правила, открыто предписанные сообществом, могут совпадать, а могут и не совпадать с правилами, фактически используемыми этим сообществом при теоретической оценке.
Чтобы оценить разницу между ними, давайте рассмотрим простой пример: как мы выбираем наши любимые книги? Нам явно нравятся одни книги больше, чем другие.Это показывает, что у нас есть определенные ожидания относительно того, какой должна быть великая книга. Другими словами, у нас есть неявный метод для оценки книги. Теперь попробуем объяснить наши ожидания; давайте попробуем написать, какой должна быть приличная книга. Эти открыто заявленные критерии будут нашей методологией оценки книг. Вполне возможно, что до этого упражнения у нас даже не было открыто сформулированной методологии оценки книг. Также возможно, что наши открыто заявленные требования отличаются от наших реальных ожиданий.В конце концов, объяснить, почему мы выбираем то, что выбираем, — непростая задача, будь то книги, еда или спутники жизни. Тем не менее, похоже, это не мешает нам ставить одни книги выше других. Это говорит нам о том, что неявные ожидания (методы) существуют независимо от того, имеем ли мы какое-либо представление об этих ожиданиях или пытались ли мы когда-либо сформулировать эти ожидания явно.
Также возможно, что наши открыто заявленные требования отличаются от наших реальных ожиданий.В конце концов, объяснить, почему мы выбираем то, что выбираем, — непростая задача, будь то книги, еда или спутники жизни. Тем не менее, похоже, это не мешает нам ставить одни книги выше других. Это говорит нам о том, что неявные ожидания (методы) существуют независимо от того, имеем ли мы какое-либо представление об этих ожиданиях или пытались ли мы когда-либо сформулировать эти ожидания явно.
Это похоже на то, что происходит в науке. Как заметил Стивен Вайнберг, «большинство ученых имеют очень слабое представление о том, что такое научный метод, точно так же, как большинство велосипедистов имеют очень слабое представление о том, как велосипед остается в вертикальном положении».Таким образом, если мы хотим узнать, как ученые выбирают свои теории, мы должны следовать совету Альберта Эйнштейна и смотреть на то, что ученые делают (т. е. на их метод) , а не на то, что они говорят они делают (т.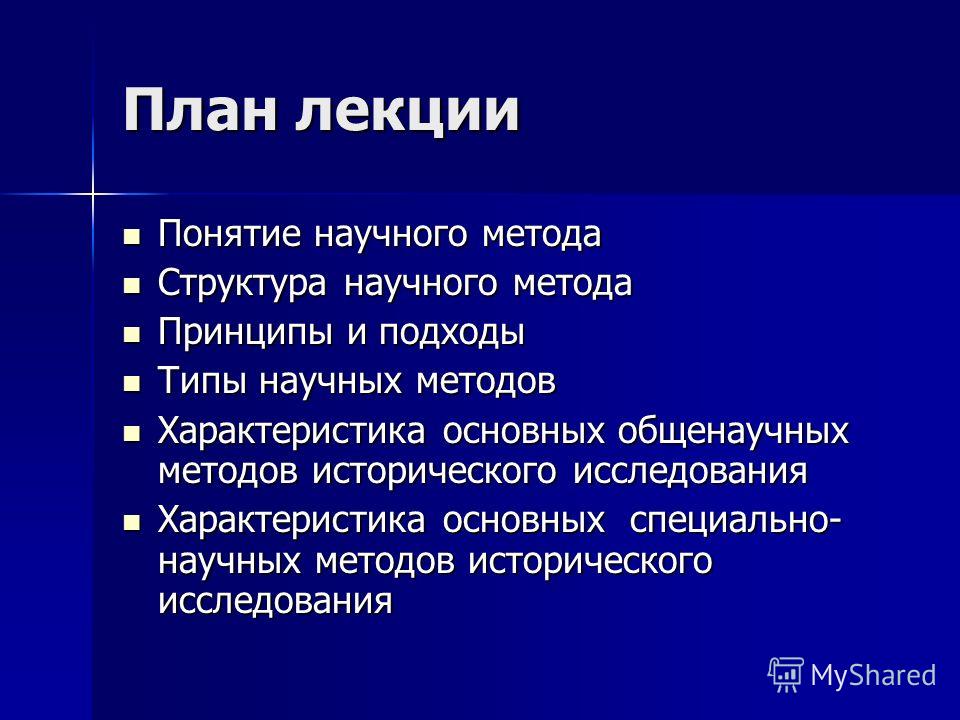 е. на их методологию ). . Это подтверждается историей науки, которая дает множество примеров, когда открыто установленные сообществом правила методологии сильно отличались от действительных ожиданий этого сообщества, т.е.Например, эмпирико-индуктивистская методология конца 18 — века предписывала, что теория должна просто обобщать результаты экспериментов и наблюдений, не постулируя никаких ненаблюдаемых сущностей. Тем не менее, это исторический факт, что практически все общепринятые теории того времени в решающей степени зависели от постулирования ненаблюдаемых сущностей. Например, жидкостная теория электричества постулировала, что электрические явления обусловлены наличием или отсутствием электрического флюида , который отталкивает себя, но притягивает материю.Точно так же теория преформации постулировала, что мужское семя содержит гомункулов , полностью сформированных крошечных людей, которые вырастают до человеческих существ после помещения в матку.
е. на их методологию ). . Это подтверждается историей науки, которая дает множество примеров, когда открыто установленные сообществом правила методологии сильно отличались от действительных ожиданий этого сообщества, т.е.Например, эмпирико-индуктивистская методология конца 18 — века предписывала, что теория должна просто обобщать результаты экспериментов и наблюдений, не постулируя никаких ненаблюдаемых сущностей. Тем не менее, это исторический факт, что практически все общепринятые теории того времени в решающей степени зависели от постулирования ненаблюдаемых сущностей. Например, жидкостная теория электричества постулировала, что электрические явления обусловлены наличием или отсутствием электрического флюида , который отталкивает себя, но притягивает материю.Точно так же теория преформации постулировала, что мужское семя содержит гомункулов , полностью сформированных крошечных людей, которые вырастают до человеческих существ после помещения в матку. Наконец, сама теория Ньютона предполагала существование таких ненаблюдаемых вещей, как абсолютное пространство, абсолютное время и сила тяжести. Это говорит о том, что фактические ожидания общества того времени значительно отличались от методологических указаний, прямо изложенных в их учебниках и энциклопедиях.
Наконец, сама теория Ньютона предполагала существование таких ненаблюдаемых вещей, как абсолютное пространство, абсолютное время и сила тяжести. Это говорит о том, что фактические ожидания общества того времени значительно отличались от методологических указаний, прямо изложенных в их учебниках и энциклопедиях.
Таким образом, метод и методология не следует путать. Помнить разницу между ними особенно важно при реконструкции состояния мозаики определенного сообщества в определенное время. Чтобы найти методологии сообщества, мы обычно просматриваем их учебники, энциклопедии и руководства по исследованиям. Методы, с другой стороны, гораздо более неуловимы, поскольку обычно они не лежат на поверхности, а извлекаются историками, которые анализируют серию переходов в мозаике и пытаются объяснить фактические ожидания сообщества.Теперь, реконструируя состояние данной мозаики, важно уметь определять методологии, которые были предписаны сообществом. Тем не менее, еще более важно иметь возможность извлечь фактические ожидания сообщества, то есть их методы оценки теории. Действительно, именно методы, а не методологии выполняют реальную работу по оценке теории. Чтобы убедить сообщество в том, что определенная теория приемлема, мы должны убедиться, что эта теория соответствует их действительным ожиданиям, независимо от того, соответствует ли она их открыто провозглашенным методологическим правилам.
Действительно, именно методы, а не методологии выполняют реальную работу по оценке теории. Чтобы убедить сообщество в том, что определенная теория приемлема, мы должны убедиться, что эта теория соответствует их действительным ожиданиям, независимо от того, соответствует ли она их открыто провозглашенным методологическим правилам.
Во-вторых, важно не путать методов с методами исследования . В научной практике метод имеет два связанных, но различных значения. Да, метод часто используется для обозначения правил оценки теории, точно так же, как мы используем его в этом учебнике. Но метод также часто используется для обозначения различных методов исследования , то есть набора процедур для генерации идей, построения теорий или проведения экспериментов, как в разделе Материалы и методы типичной научной статьи.Это не одно и то же, и мы будем хранить их отдельно:
. Одно дело спрашивать, как мы порождаем (конструируем или изобретаем) наши теории; совсем другое дело спросить, как мы оцениваем (оцениваем или оцениваем) их.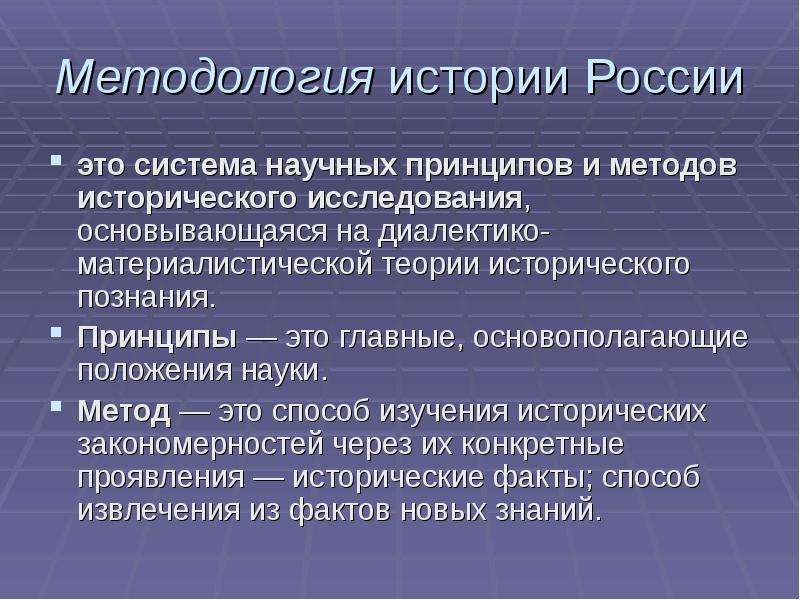 Предположим, мы пытаемся найти ответ на открытый вопрос и решили сесть с нашими коллегами и провести мозговой штурм, чтобы сгенерировать несколько возможных ответов. Мозговой штурм является примером метода исследования , поскольку он направлен на генерирование как можно большего количества интересных идей.Важно отметить, что результат сеанса мозгового штурма может быть или не быть приемлемым . Более вероятно, что отдельные результаты мозгового штурма будут сочтены достойными изучения отдельным человеком или исследовательской группой, и потребуется еще много работы, прежде чем признание сообщества станет проблемой. Будет ли принята теория, вытекающая из этого, или нет, будет решаться соответствующим методом оценки теории.
Предположим, мы пытаемся найти ответ на открытый вопрос и решили сесть с нашими коллегами и провести мозговой штурм, чтобы сгенерировать несколько возможных ответов. Мозговой штурм является примером метода исследования , поскольку он направлен на генерирование как можно большего количества интересных идей.Важно отметить, что результат сеанса мозгового штурма может быть или не быть приемлемым . Более вероятно, что отдельные результаты мозгового штурма будут сочтены достойными изучения отдельным человеком или исследовательской группой, и потребуется еще много работы, прежде чем признание сообщества станет проблемой. Будет ли принята теория, вытекающая из этого, или нет, будет решаться соответствующим методом оценки теории.
Отделение методов от методов исследования иногда может быть сложной задачей даже для профессионалов.Существует полезное эмпирическое правило для различия между ними. Методы исследования обычно содержат определенные шаги или действия, которые, как считается, способствуют исследованию. Вот типичный пример методики исследования:
Вот типичный пример методики исследования:
Шаг 1: Задайте вопрос.
Шаг 2: Запишите идеи.
Шаг 3: Обсудить.
Этот метод исследования говорит нам, что делать и в каком порядке. Методы, с другой стороны, не говорят нам, что делать, но всегда говорят нам, каким условиям должна удовлетворять теория, чтобы быть приемлемой.Вот почему методы обычно начинаются со слов «теория приемлема, если…». Вот типичный пример:
Теория об эффективности лекарственного средства приемлема, если эффект лекарственного средства был показан в рандомизированном контролируемом исследовании.
Итак, если мы хотим проверить, является ли что-то методом или исследовательской техникой, общее правило таково: если это можно сформулировать как «теория приемлема, если…», то это метод; в противном случае это метод исследования. В качестве быстрого упражнения рассмотрим следующий пример:
Шаг 1: Задайте вопрос.
Шаг 2: Проведите фоновое исследование.
Шаг 3: Предложите гипотезу.
Шаг 4: Спланируйте и проведите эксперимент.
Шаг 5: Запишите наблюдения и проанализируйте данные.
Шаг 6: Оцените гипотезу.
В большей части литературы этот шестиэтапный процесс называется «научным методом». Но действительно ли это звучит как метод , как мы определили его здесь? Если использовать наше эмпирическое правило, эта формулировка не говорит нам, как следует оценивать теорию, а, скорее, описывает набор шагов исследования.Другими словами, он говорит нам, как продолжать наше научное исследование, но не говорит нам, как именно следует оценивать результаты этого исследования. Итак, мы не называем это методом , мы называем его методом исследования .
Итак, на каком из двух методов или методов исследования мы сосредоточимся? Хотя может быть интересно исследовать, как ученые определенного периода генерировали свои идеи, для целей нашего обсуждения важно то, как эти идеи были оценены сообществом и были ли они приняты в результате этой оценки. Это отражает общее отношение ученых, которым наплевать на конкретные обстоятельства создания теории; их волнует, действительно ли теория выдерживает критику, т. е. является ли она наилучшим доступным описанием своего объекта. Таким образом, не имеет большого значения, откуда именно взялась та или иная теория: я мог видеть ее во сне; Я мог бы использовать эвристический метод высокого класса для его создания; Возможно, у меня был контакт с инопланетянами, которые рассказали мне все об этом; Возможно, я даже украл его у коллеги.Происхождение теории может быть интересной темой при изучении интеллектуальной биографии автора теории. В качестве альтернативы, происхождение может иметь значение, когда оно играет определенную роль в критериях метода, используемого в то время. Если, например, оказывается, что сообщество при прочих равных условиях отдает предпочтение теориям, созданным представителями той же национальности, этноса, религии и т. д., то происхождение теорий становится частью метода этого сообщества.
Это отражает общее отношение ученых, которым наплевать на конкретные обстоятельства создания теории; их волнует, действительно ли теория выдерживает критику, т. е. является ли она наилучшим доступным описанием своего объекта. Таким образом, не имеет большого значения, откуда именно взялась та или иная теория: я мог видеть ее во сне; Я мог бы использовать эвристический метод высокого класса для его создания; Возможно, у меня был контакт с инопланетянами, которые рассказали мне все об этом; Возможно, я даже украл его у коллеги.Происхождение теории может быть интересной темой при изучении интеллектуальной биографии автора теории. В качестве альтернативы, происхождение может иметь значение, когда оно играет определенную роль в критериях метода, используемого в то время. Если, например, оказывается, что сообщество при прочих равных условиях отдает предпочтение теориям, созданным представителями той же национальности, этноса, религии и т. д., то происхождение теорий становится частью метода этого сообщества.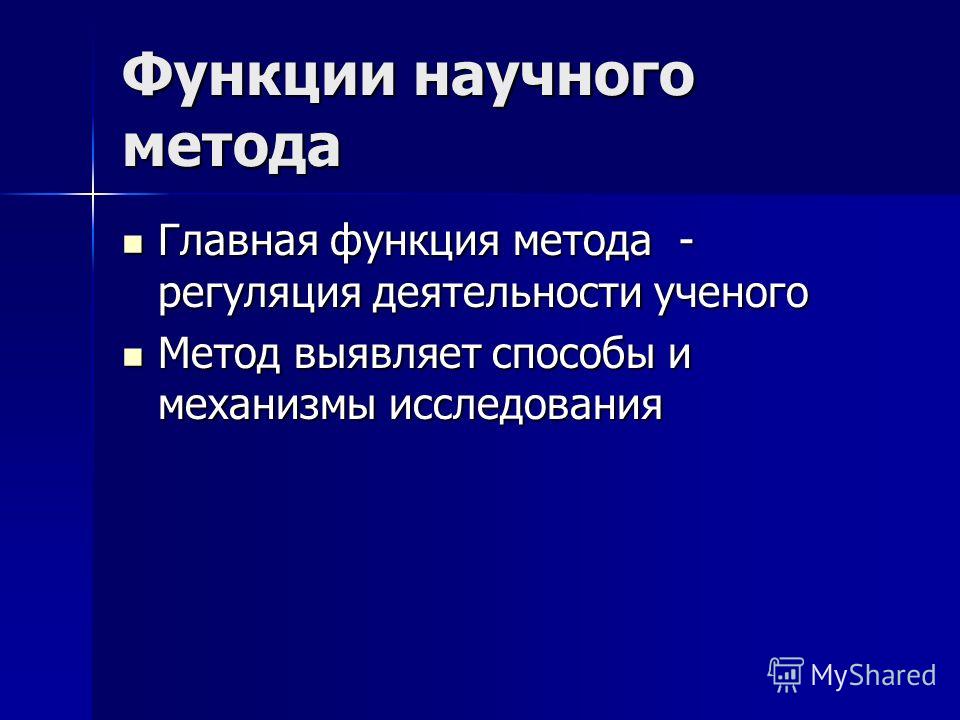 .В любом случае важны критерии, по которым решается, приемлема теория или нет. Таким образом, мы сосредоточимся не на методах исследования, а на методах оценки теории.
.В любом случае важны критерии, по которым решается, приемлема теория или нет. Таким образом, мы сосредоточимся не на методах исследования, а на методах оценки теории.
Объяснение
Научного методаТеперь, когда мы установили, что теории оцениваются методом, мы можем рассмотреть, каковы на самом деле эти ожидания, правила или критерии. То есть каким конкретным критериям должна удовлетворять теория, чтобы быть принятой? Если бы существовал фиксированный набор критериев, которые ученые всех времен и народов использовали при оценке своих теорий, то у нас был бы хороший аргумент в пользу того, что переходы от одной общепринятой теории к другой не случайны, а рациональны.Если бы мы только могли показать, что существует неизменный метод оценки теории, то все изменения в любой мозаике регулировались бы этим фиксированным внеисторическим методом науки. В этом гипотетическом сценарии процесс научных изменений выглядел бы так:
Естественно, эта уютная картина имела бы смысл только в том случае, если бы действительно существовал фиксированный научный метод. Но есть ли такое? Другими словами:
Но есть ли такое? Другими словами:
Существует ли неизменный (фиксированный, внеисторический) метод науки?
На протяжении большей части истории знания обычно предполагалось, что, хотя научные теории меняются с течением времени, критерии, которые ученые используют при оценке конкурирующих теорий, остаются так или иначе неизменными.Со времен Аристотеля, если не раньше, философы пытались открыто сформулировать требования этого фиксированного метода науки. На протяжении веков было предпринято великое множество попыток раскопать этот неуловимый научный метод. Эти попытки можно сгруппировать в несколько традиций с весьма разнообразными формулировками научного метода. Вот очень краткий обзор некоторых из наиболее заметных попыток:
I ндуктивист-эмпирик: теория приемлема, если она индуктивно основана на опыте.
C конвенционалист-упрощенец: теория приемлема, если она простейшим образом объясняет наибольшее количество явлений.
P тряпка: теория приемлема, если она решает наибольшее количество проблем.
H ипотетико-дедуктивист: теория приемлема, если ее предсказания подтверждаются экспериментами и наблюдениями.
Обратите внимание, что этот краткий очерк даже не касается поверхности бесконечно богатого мира дискуссий о научном методе.Это просто общий набросок.
Теперь предположим ради аргументации, что существует такая вещь, как фиксированный (неизменный, внеисторический) метод науки. Как бы мы это написали? Каковы наши действительные ожидания относительно новых научных теорий и как мы можем их объяснить?
Лучший способ объяснить наши ожидания — изучить переходы в нашей мозаике за определенный период времени. Если сосредоточить внимание на изменениях в теориях, которые произошли с начала 1700-х годов, можно обнаружить два типа общественных ожиданий.В то время как в некоторых случаях мы, кажется, ожидаем, что новая теория сделает успешные предсказания новых (до сих пор ненаблюдавшихся) явлений, в других случаях мы, кажется, совершенно счастливы принять теорию, даже если она не делает никаких новых предсказаний. которые подтверждены экспериментами и наблюдениями.
которые подтверждены экспериментами и наблюдениями.
Исторически было много случаев, когда теория принималась только после того, как некоторые из ее предсказаний ранее ненаблюдавшихся явлений были подтверждены. Например, французское сообщество естествоиспытателей приняло ньютоновскую физику ок.1740 только после подтверждения одного из его новых предсказаний — предсказания о том, что Земля слегка сплющена к полюсам, то есть что она представляет собой сплюснутый сфероид. Предсказание теории о том, что Земля представляет собой сплюснутый сфероид, противоречило принятому тогда представлению о Земле как о вытянутом сфероиде, то есть как о сфероиде, слегка вытянутом к полюсам. Предсказание сплюснутой сфероидальной Земли было подтверждено несколькими экспедициями, организованными Французской академией наук в конце 1730-х годов.Важно отметить, что теория Ньютона была принята во Франции только через 90 058 после 90 059 этих подтверждений.
Точно так же волновая теория света Френеля стала общепринятой ок. 1820, справа после подтверждение одного из его новых предсказаний — предсказание яркого пятна в центре тени круглого диска. Согласно принятой ранее корпускулярной теории света, свет представляет собой цепь мельчайших частиц, движущихся по прямым линиям. Ожидалось, что, как и любые другие частицы, легкие частицы будут двигаться по прямым линиям, если на них не будет воздействовать препятствие.В частности, из корпускулярной теории света следовало, что тень круглого диска должна быть равномерно темной.
1820, справа после подтверждение одного из его новых предсказаний — предсказание яркого пятна в центре тени круглого диска. Согласно принятой ранее корпускулярной теории света, свет представляет собой цепь мельчайших частиц, движущихся по прямым линиям. Ожидалось, что, как и любые другие частицы, легкие частицы будут двигаться по прямым линиям, если на них не будет воздействовать препятствие.В частности, из корпускулярной теории света следовало, что тень круглого диска должна быть равномерно темной.
Картина, предложенная волновой теорией света Френеля, была совсем другой. Согласно волновой теории, свет — это волна, которая распространяется в повсеместно присутствующей среде, называемой эфиром , аналогично распространению водяных волн в результате падения камня. Эта теория также предполагала, что, как и волны на воде, световые волны должны иметь возможность дифрагировать, огибать препятствия и мешать друг другу.Именно из-за этой способности световых волн дифрагировать и интерферировать теория сделала предсказание о том, что в центре тени круглого диска должно быть яркое пятно — неожиданное новое предсказание, которого никогда раньше не наблюдалось.
Предсказание подтвердилось в 1819 году, и была принята волновая теория света.
История науки полна примеров, когда теория принималась только после того, как некоторые из ее новых предсказаний подтверждались экспериментами и наблюдениями.Другие примеры этого явления включают принятие общей теории относительности Эйнштейна ок. 1920 г., теория дрейфа континентов в конце 1960-х гг., теория электрослабого объединения Вайнберга, Салама и Глэшоу в середине 1970-х гг., а также признание существования бозона Хиггса в 2014 г.
Тем не менее, тщательное изучение истории науки обнаруживает множество других переходов, когда теория принималась без каких-либо подтвержденных новых предсказаний.Было много случаев, когда сообщество, казалось, заботило только то, удалось ли оцениваемой теории объяснить существующие наблюдательные и экспериментальные данные с желаемым уровнем точности и точности .
Хорошим примером этого является принятие лунной теории Майера в 1760-х годах. Можно с уверенностью сказать, что предсказание траектории Луны с той же точностью и точностью, что и траектории других небесных тел, было сложной задачей с момента зарождения астрономии.В результате за эти годы было разработано большое количество лунных теорий. Только 18 -й век породил несколько выдающихся лунных теорий, в том числе теории Исаака Ньютона, Леонарда Эйлера, Алексиса Клеро, Жана д’Аламбера и Тобиаса Майера. Когда теория Майера была принята, именно потому, что она оказалась достаточно точной для определения положения Луны с точностью до пяти угловых секунд. Важно отметить, что теория была принята без каких-либо подтвержденных новых предсказаний.
Можно с уверенностью сказать, что предсказание траектории Луны с той же точностью и точностью, что и траектории других небесных тел, было сложной задачей с момента зарождения астрономии.В результате за эти годы было разработано большое количество лунных теорий. Только 18 -й век породил несколько выдающихся лунных теорий, в том числе теории Исаака Ньютона, Леонарда Эйлера, Алексиса Клеро, Жана д’Аламбера и Тобиаса Майера. Когда теория Майера была принята, именно потому, что она оказалась достаточно точной для определения положения Луны с точностью до пяти угловых секунд. Важно отметить, что теория была принята без каких-либо подтвержденных новых предсказаний.
Принятие закона обратных квадратов Кулона в электростатике несколькими десятилетиями позже демонстрирует ту же закономерность. Шарль-Огюстен де Кулон сформулировал свой знаменитый закон электростатической силы в 1785 году. Закон гласит:
Сила притяжения/отталкивания между двумя точечными зарядами пропорциональна произведению величины каждого заряда и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними:
Вот математическая формулировка закона:
По закону разноименные заряды притягиваются, а разноименные отталкиваются. Сила этого притяжения/отталкивания ( F ) больше, когда заряды ( q 1 и q 2 ) больше и меньше, когда расстояние ( r ) больше. Примечательно, что закон Кулона был принят в начале 1800-х годов, потому что он соответствовал доступным данным. Сообщество того времени, казалось, не заботилось о том, что теория не давала никаких подтвержденных предсказаний новых, до сих пор ненаблюдавшихся явлений.
Сила этого притяжения/отталкивания ( F ) больше, когда заряды ( q 1 и q 2 ) больше и меньше, когда расстояние ( r ) больше. Примечательно, что закон Кулона был принят в начале 1800-х годов, потому что он соответствовал доступным данным. Сообщество того времени, казалось, не заботилось о том, что теория не давала никаких подтвержденных предсказаний новых, до сих пор ненаблюдавшихся явлений.
В истории науки было много случаев, когда теория принималась в отсутствие каких-либо подтвержденных новых предсказаний, т.е.е. случаи, когда одной лишь точности и аккуратности предсказаний было достаточно. Другими яркими примерами этого явления являются принятие трех законов феноменологической термодинамики в 1850-х годах, закон убывающей отдачи Кларка в экономике ок. 1900 г., а квантовая механика — к 1930 г. Итак, что это говорит нам о наших ожиданиях? В частности, требуем ли мы или не требуем, чтобы теория подтверждала новые предсказания, чтобы считать ее приемлемой?
Несколько поколений философов спорили о роли новых предсказаний в принятии теории. Среди многих других Уильям Уэвелл, Карл Поппер и Имре Лакатос утверждали, что подтвержденные новые предсказания играют незаменимую роль в оценке теории. Среди их противников, утверждавших, что подтвержденные новые предсказания не играют особой роли в оценке теории, были Джон Стюарт Милль, Милтон Кейнс и Ларри Лаудан.
Среди многих других Уильям Уэвелл, Карл Поппер и Имре Лакатос утверждали, что подтвержденные новые предсказания играют незаменимую роль в оценке теории. Среди их противников, утверждавших, что подтвержденные новые предсказания не играют особой роли в оценке теории, были Джон Стюарт Милль, Милтон Кейнс и Ларри Лаудан.
Тщательное изучение исторических эпизодов показывает, что ученые действительно ожидают подтвержденных новых предсказаний, но только в очень особых обстоятельствах. Мы ожидаем, что теория будет делать успешные предсказания ранее ненаблюдавшихся явлений только тогда, когда она попытается изменить нашу принятую онтологию.Теперь, что такое онтология ? Грубо говоря, онтология — это набор представлений о типах сущностей и взаимодействий , населяющих мир. Например, наша принятая сегодня онтология включает нашу веру в то, что существуют кварки, лептоны и бозоны, что существует более ста химических элементов, что существуют миллионы видов и т.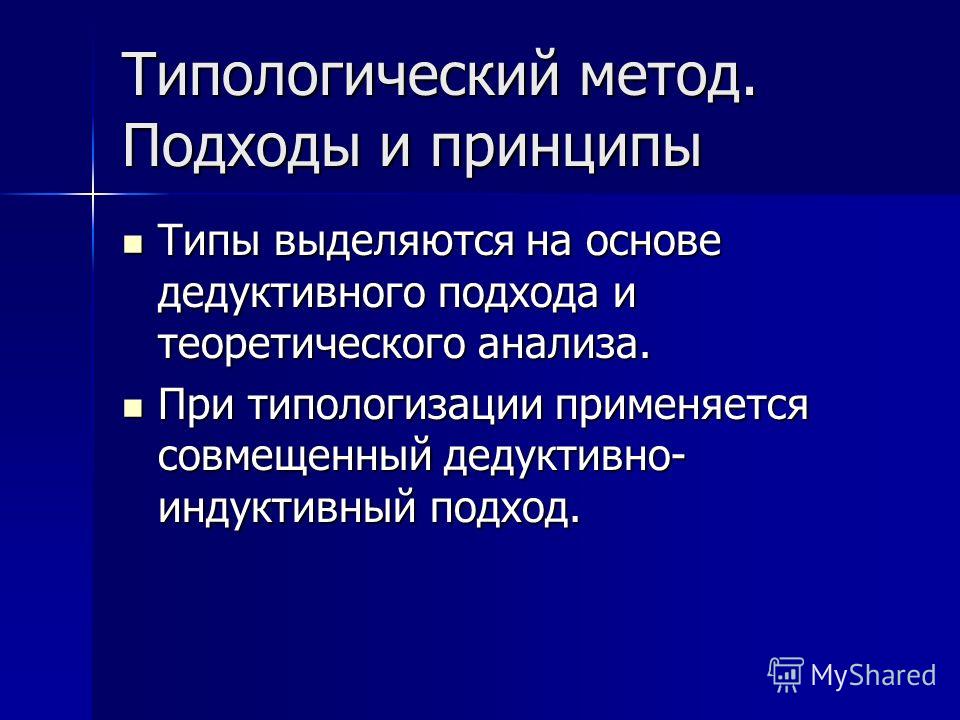 д. Хотя большинство эмпирических теорий предполагают онтологию, не каждая эмпирическая теория требует замены ранее принятой онтологии.Очень часто новая теория не вводит новых сущностей или новых отношений, т. е. не предлагает альтернативную онтологию, а разделяет онтологию ранее принятой теории. Однако иногда новая теория приходит с другой онтологией — с другими предположениями о том, какие сущности и отношения населяют мир. Важно отметить, что наши ожидания в отношении новых теорий в решающей степени зависят от того, пытается ли теория внести модификацию в нашу принятую онтологию.
д. Хотя большинство эмпирических теорий предполагают онтологию, не каждая эмпирическая теория требует замены ранее принятой онтологии.Очень часто новая теория не вводит новых сущностей или новых отношений, т. е. не предлагает альтернативную онтологию, а разделяет онтологию ранее принятой теории. Однако иногда новая теория приходит с другой онтологией — с другими предположениями о том, какие сущности и отношения населяют мир. Важно отметить, что наши ожидания в отношении новых теорий в решающей степени зависят от того, пытается ли теория внести модификацию в нашу принятую онтологию.
Кажется, что мы ожидаем подтвержденных новых предсказаний всякий раз, когда теория пытается изменить нашу принятую онтологию, т.е.е. если она попытается убедить нас принять существование новой сущности, нового взаимодействия, нового процесса, новой частицы, новой волны, новой силы, новой субстанции и т. д. Например, ньютоновская физика постулировала существование абсолютного пространства, абсолютного времени, и сила гравитации, действующая на расстоянии — все это не входило в принятую тогда онтологию; таким образом, ожидалось, что будут подтверждены некоторые новые предсказания. Точно так же волновая теория света Френеля пыталась ввести в нашу онтологию идею световых волн; также ожидалось, что он сделает успешные предсказания новых явлений.То же самое касается общей теории относительности Эйнштейна, постулировавшей существование искривленного пространственно-временного континуума; такая смелая гипотеза могла бы быть принята только в том случае, если бы по крайней мере некоторые из новых предсказаний теории были подтверждены экспериментально или наблюдательно. Обратите внимание, что само подтверждение не обязательно должно быть сделано в одном ключевом эксперименте или наблюдении, а скорее может состоять из серии экспериментов и наблюдений, которые в совокупности подтверждают предсказание. Например, в девятнадцатом веке клеточная теория Шлейдена-Шванна выдвинула онтологическую новизну — идею о том, что живые клетки являются фундаментальной структурной единицей всех организмов.Таким образом, предполагалось, что теория получит экспериментальное подтверждение.
Точно так же волновая теория света Френеля пыталась ввести в нашу онтологию идею световых волн; также ожидалось, что он сделает успешные предсказания новых явлений.То же самое касается общей теории относительности Эйнштейна, постулировавшей существование искривленного пространственно-временного континуума; такая смелая гипотеза могла бы быть принята только в том случае, если бы по крайней мере некоторые из новых предсказаний теории были подтверждены экспериментально или наблюдательно. Обратите внимание, что само подтверждение не обязательно должно быть сделано в одном ключевом эксперименте или наблюдении, а скорее может состоять из серии экспериментов и наблюдений, которые в совокупности подтверждают предсказание. Например, в девятнадцатом веке клеточная теория Шлейдена-Шванна выдвинула онтологическую новизну — идею о том, что живые клетки являются фундаментальной структурной единицей всех организмов.Таким образом, предполагалось, что теория получит экспериментальное подтверждение. Однако он был принят потому, что клеточная структура была обнаружена под микроскопом в растущем каталоге живых видов, а не в результате одного единственного решающего наблюдения.
Однако он был принят потому, что клеточная структура была обнаружена под микроскопом в растущем каталоге живых видов, а не в результате одного единственного решающего наблюдения.
Напротив, когда дело доходит до теорий, которые , а не пытаются изменить нашу принятую онтологию, мы кажемся гораздо более снисходительными. Если теория не пытается изменить наши взгляды на составляющие мира, нам обычно не требуются какие-либо подтвержденные новые предсказания — обычно мы готовы считать теорию приемлемой, если она обеспечивает более точное и точное описание уже известных явлений. .Рассмотрим, например, лунную теорию Майера. Не ожидалось, что он предоставит какие-либо подтвержденные новые предсказания, потому что он не пытался изменить нашу принятую онтологию. Это была попытка объяснить и предсказать траекторию Луны, опираясь исключительно на элементы принятой ньютоновской онтологии, такие как масса , сила , ускорение , расстояние и т. д. Следовательно, сообщество время просто ожидало, что теория будет более точной и точной в своих предсказаниях лунного движения, чем ранее принятая лунная теория.Точно так же закон Кулона не пытался изменить принятую тогда онтологию точечных зарядов и электрических сил. Это была просто попытка количественно определить уже известные отношения ( притяжение / отталкивание ) между известными сущностями ( точечных зарядов ). Естественно, сообществу не требовалась теория для предсказания каких-либо ранее невиданных явлений. То же самое относится и к любой другой теории, которая просто дает новое описание явления посредством известных отношений и сущностей.
д. Следовательно, сообщество время просто ожидало, что теория будет более точной и точной в своих предсказаниях лунного движения, чем ранее принятая лунная теория.Точно так же закон Кулона не пытался изменить принятую тогда онтологию точечных зарядов и электрических сил. Это была просто попытка количественно определить уже известные отношения ( притяжение / отталкивание ) между известными сущностями ( точечных зарядов ). Естественно, сообществу не требовалась теория для предсказания каких-либо ранее невиданных явлений. То же самое относится и к любой другой теории, которая просто дает новое описание явления посредством известных отношений и сущностей.
Подводя итог нашим ожиданиям, если теория полностью опирается на принятую в настоящее время онтологию, не ожидается, что она предоставит какие-либо подтвержденные новые предсказания — достаточно простой точности и аккуратности ее предсказаний; в противном случае, если теория пытается убедить нас в том, что существует какой-то новый тип частиц, веществ, взаимодействий, процессов, сил и т. д., она должна давать подтвержденные новые предсказания. Как однажды сказал Карл Саган: «Необычные утверждения требуют экстраординарных доказательств.В конце концов, если теория постулирует существование суперструн, единственный способ убедить сообщество — это подтвердить некоторые новые предсказания, следующие из теории. Вот сводка наших ожиданий в блок-схеме:
Это, по существу, суть гипотетико-дедуктивного метода , который мы, по-видимому, используем в наши дни:
Поскольку это объяснение неявных ожиданий научных сообществ, мы должны помнить, что оно может быть правильным, а может и нет.Наша историческая гипотеза состоит в том, что требования гипотетико-дедуктивного метода фактически использовались в физических науках с начала 1700-х годов.
Фиксированный метод?
Допустим ради аргументации, что эта историческая гипотеза верна. Возникает вопрос: является ли это фиксированным методом науки? Действительно ли во все исторические периоды и во всех областях исследования новые теории всегда должны были удовлетворять требованиям этого метода, чтобы быть принятыми? В более общем смысле, можем ли мы утверждать, что наши ожидания в отношении новых теорий не изменились со времен античности? Короче:
Существует ли неизменный (фиксированный, внеисторический) метод науки?
Анализ исторических эпизодов показывает, что при оценке теории всегда применялся гипотетико-дедуктивный метод.В лучшем случае мы можем показать, что этот метод применялся в большинстве физических наук примерно с 1700 года. Если мы вернемся во времена аристотелевско-средневековой науки, то заметим, что ожидания этого сообщества имели мало общего с требованиями гипотетико-дедуктивный метод. Итак, каковы были их ожидания?
Хотя объяснение точных ожиданий сообщества никогда не бывает легкой задачей, мы можем обоснованно утверждать, что в аристотелевско-средневековом мировоззрении теория/предложение было приемлемо, если оно схватывало природу вещи через интуицию, выученную опытом, или если оно вытекали дедуктивно из утверждений, казавшихся интуитивно верными:
Итак, как чью-то интуицию можно «обучить опытом»? Основная идея здесь проста: чем больше времени человек тратит на изучение определенного явления, тем больше у него возможностей раскрыть природу этого явления.Предполагается, что пчеловод, проведший всю жизнь среди пчел, может рассказать нам, какова природа пчел. Точно так же опытный лесовод разовьет интуицию в отношении природы различных деревьев — интуицию, вышколенную на собственном опыте. Наконец, естествоиспытатель, тщательно изучивший различные типы вещей, лучше других может понять, что общего между этими вещами; например она может интуитивно понять, что все состоит из четырех элементов ( земля , вода , воздух , огонь ) и что эти элементы стремятся занять свое естественное положение — тяжелые элементы стремятся к центру вселенной, а легкие элементы стремятся к периферии.В аристотелевско-средневековой науке эти ожидания относились к любой области исследования: теория была бы приемлемой, если бы она казалась интуитивно верной тем, кто прошел обучение на опыте, то есть экспертам.
В аристотелевско-средневековом мировоззрении основные интуиции о природе вещей считались бы аксиомами их науки. Как только природа изучаемой вещи была интуитивно понята экспертом, мы переходили к прослеживанию логических следствий (т. е. теорем) наших основных интуитивных представлений.Например, если понять, что тяжелые элементы стремятся к центру Вселенной, мы можем вывести теорему о том, что Земля, которая представляет собой преимущественно комбинацию элементов земли и воды , расположена в центре Вселенной. вселенная. В результате мы имеем аксиоматико-дедуктивную систему, в которой аксиомы схватываются экспертами интуитивно, а теоремы логически выводятся из этих аксиом.
Важно отметить, что метод аристотелевско-средневекового сообщества не имел ничего общего с подтвержденными новыми предсказаниями; сообщество ожидало базовых интуиций, вышколенных опытом и выводами из этих интуиций.Таким образом, пытаться убедить это сообщество, апеллируя к подтвержденным новым предсказаниям, было бы глупой затеей.
Знаменитый случай с Галилеем — прекрасная иллюстрация аристотелевско-средневекового метода в действии. Если мы вернемся в 1600 год, то обнаружим, что общепринятой точкой зрения был геоцентризм Птолемея: считалось, что Земля находится в центре Вселенной, а все планеты, Луна и Солнце вращаются вокруг Земной шар. С Земли наблюдаемое движение планет может показаться довольно странным на фоне относительно равномерного движения звезд.В то время как кажется, что звезды всегда движутся в одном и том же направлении и с одной и той же скоростью, внимательный наблюдатель заметит, что планеты кажутся движущимися с разной скоростью, а иногда и в обратном направлении — то, что называется ретроградным движением .
Это блуждание по небу на самом деле дало им название планета: вспомним, что греческое слово planētēs означает странник . Для Птолемея все небесные тела вращались вокруг Земли по круговым траекториям, которые назывались деферентами .Чтобы объяснить легко наблюдаемое ретроградное движение планет, Птолемей предположил, что планеты движутся по дополнительной, меньшей круговой орбите вдоль своего деферента, называемой эпициклом . Такие комбинации эпициклов и деферентов помогли воспроизвести точное движение каждой планеты.
На самом деле, теория оказалась чрезвычайно успешной в своих предсказаниях будущего положения планет.
Поскольку в этой теории Венера вращается вокруг Земли, считалось, что наблюдатель на Земле никогда не сможет увидеть полностью освещенную Венеру; мы могли бы, в лучшем случае, увидеть его полуосвещенным:
В то время развивалось несколько альтернативных космологических теорий, в том числе гелиоцентрическая теория Коперника, отстаиваемая Галилеем.В гелиоцентрической теории Коперника Венера и другие планеты вращаются вокруг Солнца, и, таким образом, наблюдатель на Земле должен видеть полный набор фаз Венеры:
.Это было одно из новых предсказаний теории Коперника. Только с изобретением телескопа стало возможным проверить его. В 1610 году Галилей успешно проверил это предсказание и подтвердил, что мы можем видеть полный набор фаз Венеры. Если бы только общество того времени заботилось о подтвержденных новых предсказаниях, теория Коперника была бы принята.К несчастью для Галилея, сообщество того времени не заботилось о подтвержденных новых предсказаниях, поскольку они ожидали, что новые теории будут основаны на здравом смысле, то есть интуитивно кажутся экспертам верными. Но идея о том, что Земля находится где угодно, только не в центре Вселенной, была совсем не здравой. В то время представление о вращении Земли вокруг Солнца и ее суточном вращении вокруг собственной оси казалось столь же нелогичным. Это не только противоречило нашим повседневным наблюдениям, которые, казалось, предполагали, что Земля статична, но также противоречило законам принятой в то время аристотелевской натурфилософии, согласно которой Земля состоит из элементов , земли, и , воды, . он не мог вращаться или вращаться.Поэтому неудивительно, что Галилею не удалось убедить общество своего времени. Важно отметить, что его неудача не имела ничего общего с предполагаемым догматизмом и упрямством аристотелевского духовенства того времени с университетским образованием, а с тем фактом, что ожидания сообщества не имели ничего общего с наблюдательными подтверждениями новых предсказаний. Это как если бы Галилей пытался обыграть всех в шахматы, когда другие играли в шашки.
Потребовалось почти столетие, чтобы теория Коперника стала общепризнанной.Но как это стало общепринятым? Короткий ответ заключается в том, что он был включен в более общую систему мира, которая, наконец, смогла оправдать ожидания сообщества. Автором этой системы был Рене Декарт, к взглядам которого мы еще вернемся несколько раз, особенно в главе 8. Декарт разработал систему мира с целью удовлетворения требований аристотелевско-средневекового сообщества. Наиболее полное изложение этой новой системы было представлено в его Principia Philosophiae (Принципы философии), впервые опубликованном в 1644 году.Декарт ясно осознавал, что для успеха его теории она должна казаться экспертам интуитивно верной. Но, говорит Декарт, если мы ищем интуитивную истину, не будет ли более разумным начать со стирания всего, что, как мы думаем, мы знаем, а затем перейти к принятию только тех теорий, которые установлены вне всяких разумных сомнений? Именно к этому и стремился Декарт.
Среди многих других тем Декарт также пытался раскрыть атрибуты материи, т.е.е. те качества материальных объектов, которые необходимы. Возьмите любой материальный объект: камень, растение, животное, человеческое тело — что угодно. Вопрос: какими качествами обязательно должен обладать любой материальный предмет? Материальный объект может иметь цвет , звук , вкус , запах и форму . Из этих обычных подозреваемых, которые действительно незаменимы? Например, можем ли мы представить материальную вещь, которая не имеет цвета? Да, говорит Декарт, это возможно: мы можем думать о чем-то материальном, но прозрачном, например о воздухе.Следовательно, цвет не является непременным свойством материальных предметов. Но как насчет звука: можем ли мы представить материальный объект, который не издает звука? Ясно, что мы можем это сделать. Поэтому, по Декарту, звук не обязателен. То же самое и со вкусом: есть много предметов, которые не имеют никакого вкуса. Более того, есть продукты, которые должны иметь вкус, а его как будто нет (я смотрю на вас, американские абрикосы)! Таким образом, вкус не является непременным качеством материи.Как насчет запаха? Ясно, что не все в нашем мире пахнет, так что запах — еще одно необязательное качество. Это оставляет нам только форму. Декарт утверждает, что мы не можем представить материальный объект, который не занимает какое-то пространство. Материальная вещь может иметь четко определенную форму, как в случае с большинством твердых объектов вокруг нас, или довольно размытую форму, как в случае с водой, огнем или воздухом. Но в любом случае все материальные объекты обязательно занимают какое-то пространство , т.е.е. все они пространственно расширены . В самом деле, можем ли мы представить себе материальный объект, который вообще не занимает никакого пространства, даже самого крошечного пространства? Это невозможно, говорит Декарт; если вам случится столкнуться с материальным объектом, который вообще не занимает места, то это не очень-то материальный объект, не так ли? Вспомните печально известную сырную лавку из скетча «Монти Пайтон», в которой не было сыра: это была не совсем сырная лавка, не так ли? Точно так же, чтобы вещь была материальной, по Декарту, она должна быть пространственно протяженной, т.е.е. он должен занимать или места. Это подводит Декарта к формулировке одного из его фундаментальных принципов — идеи о том, что единственным атрибутом материи является протяженность:
Еще раз под атрибутом Декарт подразумевает необходимое качество .
Как только мы примем этот принцип, логически вытекает ряд важных выводов. Одним из таких выводов является идея о том, что материальные объекты должны состоять из частиц взаимодействующей материи, каждая из которых пространственно протяженна.В самом деле, говорит Декарт, если все материальные объекты могут занимать некоторое пространство, то все во Вселенной состоит из более мелких частиц материи, которые также занимают некоторое пространство и взаимодействуют друг с другом. Но как два кусочка материи могут влиять друг на друга, если все, что они могут делать, это занимать пространство? Рассмотрим два бильярдных шара. Как один бильярдный шар может воздействовать на другой бильярдный шар? Их фактический контакт кажется единственным способом, которым они могут взаимодействовать. Согласно Декарту, именно так обстоит дело с всеми взаимодействиями между материальными объектами; поскольку все они являются пространственно протяженными битами, они могут воздействовать друг на друга, только соприкасаясь и толкая друг друга.Это требует фактического контакта; для Декарта не может быть такого понятия, как действие на расстоянии .
Хотя эти выводы могут показаться тривиальными, они являются краеугольными камнями механистического картезианского мировоззрения, которое мы изучим в главе 8.
Важно отметить, что Декарт хотел убедить своих аристотелевских коллег в том, что эти выводы являются ничем иным, как интуитивными истинами, как этого хотел бы и сам Аристотель. Разве не интуитивно, говорит Декарт, что единственным атрибутом материи является протяженность? Это здравый смысл! Итак, если мы ожидаем здравого смысла, интуитивно верных аксиом, они у нас есть.По сути, Декарт утверждал, что его теория удовлетворяет аристотелевско-средневековым требованиям лучше, чем сама теория Аристотеля!
Разница между стратегией Декарта и стратегией Галилея очевидна. Там, где Галилей пытался убедить общественность, цитируя результаты своих наблюдений, Декарт знал, что единственный способ убедить аристотелевцев — оправдать их ожидания. Поэтому неудивительно, что именно теория Декарта стала общепринятой на континенте ок.1700. Ключевым моментом является то, что он был принят не потому, что давал подтвержденные новые предсказания, а потому, что он казался интуитивно верным сообществу того времени. Что нам нужно понять, так это то, что метод того времени сильно отличался от гипотетико-дедуктивного метода, которым мы пользуемся сегодня.
Резюме
Чтобы ответить на центральный вопрос этой главы: в настоящее время принято, что не существует фиксированного (неизменного, внеисторического) метода науки. Исторические записи показывают, что при изучении мира мы переходим не только от одной теории к другой, но и, что важно, от одного метода оценки теории к другому.Другими словами, в настоящее время мы отвергаем идею статического метода и принимаем тезис о динамическом методе , таким образом:
На протяжении большей части истории знания тезис о статическом методе считался само собой разумеющимся. Хотя Аристотель, Ньютон, Кант и Поппер никогда не пришли бы к соглашению относительно требований метода, все они согласились бы с тем, что существует один набор требований, которым должна соответствовать любая приемлемая теория. Переход к динамическому методу диссертации произошел ок. 1980 г. и в основном благодаря новаторской работе Томаса Куна и Пола Фейерабенда, а также ряда историков науки, которые показали, что методы оценки теории часто меняются по мере того, как мы узнаем о мире что-то новое.В настоящее время общепризнано, что фиксированного научного метода не существует; методы меняются.
Этот переход серьезно изменил наши взгляды на процесс научных изменений. Примерно до 1980 года предполагалось, что процесс научного изменения касается только теорий , в то время как методы считались внешними по отношению к процессу, как если бы они направляли процесс изменения теории извне:
Наша нынешняя точка зрения отличается, поскольку мы больше не думаем, что методы являются внешними по отношению к процессу научных изменений.На самом деле они являются частью процесса научных изменений:
Но если мы поймем, что методы являются частью процесса научных изменений, мы должны пересмотреть наше понятие научной мозаики . Первоначально мы определили его как совокупность всех принятых теорий. Теперь понятие научной мозаики должно также включать в себя все методы, применявшиеся сообществом в определенное время:
Обратите внимание, что так же, как мы принимаем несколько теорий одновременно, возможно использование нескольких методов в одной и той же мозаике.Например, наш метод тестирования на наркотики, вероятно, будет отличаться от нашего метода оценки эффективности хирургических методов. Точно так же конкретный метод оценки гипотез, касающихся субатомных частиц, не обязательно должен совпадать с методом оценки гипотез, касающихся существования различных биологических видов. Короче говоря, у сообщества могут быть разные ожидания в отношении гипотез, относящихся к разным предметным областям.
Таким образом, мы подошли к, пожалуй, самому сложному вопросу современной философии науки.Если нет фиксированных методов оценки теории, значит ли это, что процесс научных изменений иррационален ? Другими словами, почему в наши дни мы используем гипотетико-дедуктивный метод, а не, скажем, аристотелевско-средневековый метод? Является ли выбор методов произвольным или существует некий механизм, управляющий процессом переходов от одного используемого метода к другому? Если окажется, что выбор методов случаен — если каждый может свободно выбирать свой собственный метод оценки теории, — то как мы можем обоснованно утверждать, что наша современная наука лучше, чем наука Аристотеля, Декарта или Ньютона? Если бы мы признали, что не существует механизма, управляющего переходами от одного метода к другому, то не было бы возможности разумно утверждать, что один метод лучше другого, и мы пришли бы к тому, что философы называют релятивизмом .Итак, существует ли механизм, который направляет процесс изменений как в теориях, так и в методах? Мы рассмотрим этот вопрос в следующей главе.
Научный метод в истории вакцин
Что такое научный метод?
Научный метод — это дисциплинированный, систематический способ задавать вопросы о физическом мире и отвечать на них. Хотя может быть полезно думать о научном методе как о простой последовательности шагов, на самом деле не существует единой модели научного метода, которую можно было бы применять во всех ситуациях.Скорее, разные научные исследования требуют разных научных методов. Однако определенные качества должны быть применимы ко всем применениям научного метода.
Одним из важных качеств научного исследования является то, что оно должно пытаться ответить на вопрос. Другими словами, расследование не должно быть попыткой «доказать» точку зрения, оно должно быть попыткой получить знания. Другое качество состоит в том, что тщательные контролируемые наблюдения должны лежать в основе сбора информации. Наконец, результаты научного исследования должны быть воспроизводимы: другие исследователи, использующие тот же процесс, должны иметь возможность наблюдать те же результаты.Если результат не воспроизводим, первоначальные выводы должны быть подвергнуты сомнению.
Этапы научного методаТо, что мы сегодня называем «шагами» науки, развивалось с течением времени, и они могут различаться в зависимости от типа проводимого исследования. Однако, как правило, шаги включают в себя наблюдение, формирование гипотезы («вопрос», упомянутый выше), проведение теста и заключение.
НаблюдениеНаучные исследования обычно начинаются с наблюдения, которое указывает на интересный вопрос.Один известный пример наблюдения, которое привело к дальнейшему исследованию, сделал шотландский биолог Александр Флеминг в 1920-х годах. После отсутствия в своей лаборатории он вернулся и начал чистить несколько стеклянных пластин, на которых он выращивал определенный вид бактерий. Он заметил странную вещь: одна из тарелок покрылась плесенью. Любопытно, что область вокруг плесени выглядела свободной от бактерий. Его наблюдение показало, что может существовать причинно-следственная связь: плесень или вещество, вырабатываемое плесенью, может препятствовать росту бактерий.Наблюдение Флеминга привело к серии научных тестов, которые привели к новым знаниям: пенициллин можно использовать для лечения бактериальных инфекций.
ГипотезаГипотеза – это предложение или возможное решение, порожденное наблюдением. В исследовании Александра Флеминга об антибиотических свойствах плесени его гипотеза могла звучать примерно так: «Если фильтраты определенного типа плесени попадают в бактерии, бактерии погибают».
Хорошие гипотезы имеют несколько общих качеств.Во-первых, они обычно начинают с уже имеющихся знаний. То есть они не предлагают идей, которые сильно расходятся с нашими общими знаниями о том, как устроен мир. Кроме того, хорошие гипотезы просты и включают одну проблему и возможное решение. Наконец, хорошие гипотезы проверяемы и «фальсифицируемы». То есть предлагаемое решение в гипотезе может быть подвергнуто наблюдаемой проверке, и посредством проверки исследователь может доказать ложность гипотезы. Вышеприведенная гипотеза, относящаяся к исследованиям Флеминга плесени, может быть опровергнута, потому что тест, в котором бактерии росли в присутствии фильтрата плесени, опроверг бы эту гипотезу, если бы она не была верна.
ТестированиеМногие современные научные исследования включают тест с контрольной группой и экспериментальной группой. Другие виды исследований можно проводить с помощью моделирования или исследований и анализа данных. Но в этой статье мы обсуждаем тестирование, проведенное путем экспериментов.
Исследователь проводит эксперимент на контрольной группе так же, как и на экспериментальной. Единственное отличие состоит в том, что исследователь не подвергает контрольную группу воздействию единственного тестируемого фактора или вмешательства.Этот единственный проверяемый фактор известен как переменная. Контрольная группа существует, чтобы обеспечить достоверное сравнение с экспериментальной группой.
Например, в эксперименте по проверке гипотезы Флеминга ученый мог ввести фильтраты плесени в культуры бактерий на стеклянных пластинах. Это будет экспериментальная группа. Контрольная группа будет содержать аналогичные культуры бактерий, но без добавления фильтратов плесени. В противном случае обе группы находились бы в одинаковых условиях.Любая разница между двумя группами будет результатом переменной или единственной разницы между ними: введение фильтрата плесени в бактериальные культуры.
Тщательные наблюдения и запись данных имеют решающее значение на этапе тестирования научного метода. Отсутствие точного измерения, наблюдения и записи может исказить результаты теста.
ЗаключениеПоследний шаг в научных методах включает анализ и интерпретацию данных, собранных на этапе тестирования.Это позволяет исследователю сделать вывод на основе данных. Хороший вывод учитывает все собранные данные и отражает гипотезу, поддерживает ли она гипотезу или нет.
Теперь мы рассмотрим различные аспекты научного метода, используемые различными новаторами в разработке вакцин.
Эдвард Дженнер: важность наблюденияЭдвард Дженнер, родившийся в Англии в 1749 году, является одним из самых известных врачей в истории медицины.Дженнер проверил гипотезу о том, что заражение коровьей оспой может защитить человека от заражения оспой. Все вакцины, разработанные со времен Дженнера, основаны на его работе.
Коровья оспа — редкое заболевание крупного рогатого скота, обычно легкое, которое может передаваться от коровы человеку через язвы на коровьем вымени. Оспа, напротив, была смертельной болезнью человека. Он убил около 30% зараженных. У выживших часто оставались глубокие ямчатые шрамы на лицах и других частях тела, пораженных волдырями.Оспа была основной причиной слепоты.
Говорят, что Дженнер заинтересовался наблюдением за дояркой. Она сказала ему: «У меня никогда не будет оспы, потому что у меня была коровья оспа. У меня никогда не будет уродливого рябого лица». И многие другие молочники обычно считали, что заражение коровьей оспой защищает их от оспы.
Учитывая, что защитный эффект заражения коровьей оспой был общеизвестен, почему участие Дженнера было важным? Дженнер решил систематически проверять наблюдение, которое затем легло бы в основу практического применения преимущества заражения коровьей оспой.
Дженнер нацарапал немного материала с язвы коровьей оспы на руке доярки на руку восьмилетнего Джеймса Фиппса, сына садовника Дженнера. Молодой Фиппс несколько дней плохо себя чувствовал, но полностью выздоровел.
Некоторое время спустя Дженнер нацарапал какой-то материал из свежей человеческой оспы на руке Фиппса, пытаясь заразить его оспой. Фиппс, однако, не заболел оспой. Дженнер проверил свою идею на других людях и опубликовал отчет о своих выводах.
Теперь мы знаем, что вирус, вызывающий коровью оспу, принадлежит к семейству вирусов Orthopox. Ортопоксвирусы также включают вирусы натуральной оспы, вызывающие оспу.
Метод вакцинации Дженнера против оспы становился все более популярным и в конечном итоге распространился по всему миру. Примерно через 150 лет после смерти Дженнера в 1823 году оспа будет издавать последние издыхания. Всемирная организация здравоохранения в конце концов объявила об искоренении оспы на планете в 1980 году после масштабной программы наблюдения и вакцинации.
Объяснение научного метода Дженнера показано ниже:
- Наблюдение: Люди, переболевшие коровьей оспой, не заболевают оспой.
- Гипотеза: Если человек был преднамеренно заражен коровьей оспой, то этот человек будет защищен от заболевания после целенаправленного контакта с оспой.
- Тест: Заразить человека коровьей оспой. Затем попробуйте заразить человека оспой. (Обратите внимание, что Дженнер не использовал контрольную группу в своем эксперименте.)
- Заключение: Заражение человека коровьей оспой защищает от заражения оспой.
Дженнер повторил свой эксперимент несколько раз и получил те же результаты. Другие ученые сделали то же самое и получили те же результаты. Дженнер известен тем, что применил научный метод для создания средств профилактики оспы.
Роберт Кох: шаги по выявлению причины заболеванияРоберт Кох (1843-1910) был немецким врачом, который способствовал становлению бактериологии как науки.Кох сделал важные открытия в идентификации бактерий, вызывающих сибирскую язву, холеру и туберкулез, в то время, когда понимание микробов только начиналось.
Кох и его коллега Фридрих Леффлер разработали метод идентификации возбудителя болезни. Сегодня ученые следуют этим основным принципам, которые мы сейчас называем постулатами Коха, когда пытаются определить причину инфекционного заболевания. Постулаты Коха основаны на тщательных наблюдениях и воспроизводимости.
- Микроб присутствует в каждом случае заболевания.
- Микроб можно взять у хозяина и вырастить самостоятельно.
- Заболевание можно вызвать путем введения чистой культуры микроба здоровому подопытному хозяину.*
- Микроб может быть выделен и идентифицирован от хозяина, инфицированного на этапе 3.
*Единственным исключением из шага 3 является то, что некоторые люди могут быть инфицированы болезнетворным микробом и не проявлять признаков болезни. Они известны как бессимптомные носители.
Перл Кендрик: тщательный контрольВ 1930-х годах Перл Кендрик из Министерства здравоохранения штата Мичиган разработала вакцину против коклюша, которая, как она надеялась, будет более эффективной, чем предыдущие вакцины.Важная часть демонстрации эффективности вакцины включала контрольную группу детей, которые не получали вакцину. В то время это было чем-то вроде нововведения, но Кендрик знала, что наличие контрольной группы добавит веса ее выводам, если вакцина окажется эффективной. Уровень заболеваемости коклюшем в контрольной группе позволил Кендрик легко продемонстрировать, может ли ее вакцина снизить уровень заболеваемости в экспериментальной группе.
Кендрик включала детей в свою экспериментальную группу по коклюшу, если они обращались в клинику за вакциной против коклюша.Для контрольной группы она нашла детей случайным образом из списка непривитых детей, который ведется городским отделом здравоохранения. Одной ошибкой, которую мы увидим сегодня в плане эксперимента Кендрика, было отсутствие рандомизации при распределении детей либо в экспериментальную, либо в контрольную группу. Рандомизация — это метод использования одной лишь случайности для распределения испытуемых в контрольную или экспериментальную группу. Исследователи используют рандомизацию, потому что она помогает гарантировать, что различия между двумя группами не повлияют на результат эксперимента.Если бы у Кендрик были случайные назначения, она бы свела к минимуму различия между вакцинированной группой и группой, которую она просто наблюдала.
Несмотря на этот недостаток, испытание Кендрик помогло установить нормы и ожидания для будущих испытаний вакцины и ясно показало эффективность ее вакцины.
Джонас Солк: двойное слепое рандомизированное исследованиеПолевые испытания инактивированной вакцины против полиомиелита (ИПВ) Джонаса Солка в 1954 году стали еще одной важной вехой в использовании научного метода тестирования вакцины.В этом испытании участвовало огромное количество субъектов — всего 1,3 миллиона детей — это крупнейшее из когда-либо проводившихся медицинских полевых испытаний.
Испытание Солка было тщательно спланированным двойным слепым рандомизированным экспериментом . Это означало, во-первых, что детей случайным образом распределяли либо в контрольную, либо в экспериментальную группу. «Двойной слепой» подход означал, что никто — ни ребенок, ни родитель, ни человек, сделавший инъекцию, ни человек, который оценивал состояние здоровья ребенка, — не знали, получил ли конкретный ребенок вакцину против полиомиелита или инъекцию плацебо.(Плацебо — это неактивное вещество. В данном случае плацебо представляло собой солевой раствор.) Информация о том, получил ли ребенок вакцину или плацебо, была закодирована цифрами на флаконах, из которых был взят инъекционный материал, и была связана к записи ребенка. Только после окончания периода наблюдения и регистрации результата — развился ли у ребенка полиомиелит в период наблюдения или нет? — выявлялся экспериментальный или контрольный статус ребенка.
Властям не удалось достичь двойного слепого рандомизированного стандарта на протяжении всего испытания вакцины против полиомиелита.В некоторых общинах официальные лица возражали против использования инъекции плацебо, поэтому детей в контрольной группе просто обследовали на наличие признаков полиомиелита. Эти группы были известны как наблюдаемые контроли. Некоторые разработчики исследования беспокоились, что различия между наблюдаемой контрольной и экспериментальной группами могут повлиять на результат. Например, в наблюдаемую контрольную группу входили дети, родители которых не давали согласия на получение ими вакцины. Имеются ли важные различия, такие как доход, жилье или возраст родителей, между детьми, родители которых не согласятся, и теми, кто даст? И могут ли эти различия повлиять на то, подверглись ли дети уже воздействию полиомиелита и стали ли они невосприимчивыми к нему?
Испытание вакцины Солка успешно показало, что вакцина помогает предотвратить паралитический полиомиелит, и вскоре последовало лицензирование вакцины.Болезнь, которая когда-то парализовала тысячи детей, теперь ликвидирована в Западном полушарии.
ЗаключениеИстория научного метода исследования вакцин привела к сегодняшнему тщательно регулируемому процессу разработки вакцин. С годами стандарты исследований вакцин становились все более строгими, чтобы сделать контрольные и вакцинированные группы как можно более похожими друг на друга. Принципы контроля, ослепления и рандомизации играют ключевую роль в способах тестирования вакцин.Для получения дополнительной информации см. статью «Разработка, тестирование и регулирование вакцин».
ИсточникиПрограмма открытых коллекций библиотеки Гарвардского университета. Заражение: исторические взгляды на болезни и эпидемии. Дата обращения 17.01.2018.
Кендрик П., Элдеринг Г. Исследование активной иммунизации против коклюша. Американский журнал гигиены 29:133-153.
Маркс, Х.М. Полевые испытания вакцины Солка против полиомиелита в 1954 году. Клинические испытания .2011 апр;8(2):224-34. Дата обращения 17.01.2018.
Маркс, Х.М. Полевые испытания коклюшной вакцины Кендрика-Элдеринга-(Фроста). Библиотека Джеймса Линда. 2006. Дата обращения 17.01.2018.
Ошинский Д.М. Полиомиелит: американская история. Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета, 2005.
Сэр Александр Флеминг: Вопросы и ответы. Nobelprize.org. Дата обращения 17.01.2018.
Для чтения PDF-файлов загрузите и установите Adobe Reader .
Последнее обновление 17 января 2018 г.
Что такое научный метод и как он сформировал науку?
На рубеже 6 века до н.э.э., на берегу Эгейского моря в городе Милете первый греческий философ пришел к выводу, что «все есть вода». Его звали Фалес. Его ученик, Анаксимандр, с этим не согласился — он считал, что в основе Вселенной лежит «неопределенное вещество». Его собственный ученик Анаксимен думал, что это воздух.
Эти идеи кажутся фантастическими, но в них укореняется научный разум. Возможно, это первые конкурирующие гипотезы, знаменующие «отход от мифологических объяснений», — говорит Брайан Хепберн, философ науки из Университета штата Уичито.Оставляя в стороне богов и сверхъестественные силы, эти философы вместо этого основывают свое понимание природы на наблюдении. Другими словами, они используют рудиментарную форму того, что мы сейчас называем научным методом.
Фалес и его ученики оказали влияние на Аристотеля, который, в свою очередь, оказал глубокое влияние на каждого выдающегося западного философа в течение следующих двух с половиной тысячелетий, включая Фрэнсиса Бэкона, который переупаковал научный метод для современной эпохи и определил повестку дня научной революции 16 и 17 века.
С тех пор наука заняла свое место среди самых плодотворных человеческих предприятий. Это не только «наиболее прочная и строгая традиция тщательного изучения историй о мире», — говорит Хепберн, но также «позволяет вам делать такие вещи, как создание Интернета или спутника GPS или отправка ракеты в космос». Луна.» И, как выразился космолог Герман Бонди, «в науке нет ничего, кроме ее метода».
Но, несмотря на весь свой успех и все окружающие его легенды, этот план сбора знаний не так прост, как его изображают в учебниках.В течение 500 лет ученые и философы спорили о том, как это должно работать, и в наши дни многие задаются вопросом, имеет ли вообще смысл искать научный метод — история говорит о том, что их много.
Начало метода
Что делает науку наукой? Детали сильно различаются в зависимости от времени, пространства и области исследования. Для Аристотеля его основой было пассивное наблюдение за природой. В современную эпоху это также часто связано с экспериментами. Помимо этого, согласно Стэнфордской энциклопедии философии, наиболее распространенными элементами являются «индуктивные и дедуктивные рассуждения, а также формирование и проверка гипотез и теорий.
Бэкон, которого часто называют «отцом эмпиризма», рассматривал эти стратегии как набор интеллектуальных инструментов на тот случай, когда наши собственные когнитивные способности отстают. «Рука без посторонней помощи и разум, предоставленный самому себе, обладают малой силой», — пишет он в первых строках «Нового Органона» («Новый Органон» — отсылка к логическому трактату Аристотеля «Органон», в котором он дал, пожалуй, первые указания для Научное исследование). «Действия производятся с помощью инструментов и подсказок, — продолжает Бэкон, — которые разум требует не меньше, чем рука.
Как микроскоп и телескоп раскрывают сферы реальности, скрытые невооруженным глазом, так и научный метод дает нам, близоруким людям, возможность заглянуть в более глубокую структуру природного мира. Это очень важно, поскольку наука часто имеет дело с объектами и процессами, которые недоступны, будь то физически (центр Земли), временно (эволюция жизни) или интеллектуально (квантовая механика).
Помимо своего метода, Бэкон сам не сделал никаких крупных открытий. Но его современник Галилео Галилей, которого также иногда называют «отцом науки», хорошо использовал новый метод в своих знаменитых экспериментах с движением и астрономических наблюдениях.Затем пришла следующая суперзвезда науки Исаак Ньютон со своими монументальными законами движения и гравитации. В Principia Mathematica Ньютон даже сформулировал свои собственные методологические правила, или «regulae philosophandi», для научных рассуждений.
Индукция против дедукции
Ученые и люди в целом используют два способа рассуждений: индуктивный и дедуктивный. Индуктивное рассуждение движется от частных наблюдений (у всех птиц, которых я видел, есть крылья) к общим утверждениям (у всех птиц есть крылья).Дедуктивное рассуждение работает в другом направлении, от информации, которую вы уже знаете (все люди смертны), к конкретным выводам (Стив — человек, значит, Стив смертен).
И Бэкон, и Ньютон считали себя индуктивистами. Ньютон особо отметил, что он «не симулировал никаких гипотез», насмешливо употребив то, что сейчас является совершенно общепринятым научным термином. Чарльз Дарвин также утверждал, что действовал индуктивно, когда он построил теорию эволюции, строя с нуля свои исследования галапагосских вьюрков и других животных.
Но через столетие после Ньютона появился Дэвид Юм, философ эпохи Просвещения, сформулировавший одну из величайших эпистемологических дилемм: проблему индукции. По сути, утверждал он, нет никаких оснований предполагать, что то, что вы знаете, имеет какое-то отношение к тому, чего вы не знаете, или что будущее будет похоже на прошлое. Неважно, сколько раз камень упадет обратно на Землю после того, как вы его подбросите, — никакая логическая необходимость не требует от него этого в следующий раз.
В науке аналогом индуктивизма является гипотетико-дедуктивизм, в котором вы начинаете с гипотезы, выводите ее следствия и проверяете их.Гипотеза может быть сложной, как идея Ньютона о том, что «всякая материя воздействует на всю другую материю», или такой простой, как «все ножи острые». Отсюда вы прогнозируете, что X произойдет, если ваша гипотеза верна, и смотрите, произойдет ли X. В этом случае X состоит в том, что вы найдете только острые ножи, поэтому, если вы найдете тупой, вы должны отвергнуть эту гипотезу. С другой стороны, если вы найдете 100 ножей, и каждый из них острый, вы можете поднять гипотезу на ступеньку выше по лестнице подтверждения.
Трудный путь к теории
Из этого примера должно быть ясно, что никакая гипотеза не может быть окончательно подтверждена (исследователю еще предстоит столкнуться с ножом для масла).На самом деле целью ученого должно быть опровержение гипотезы, как подчеркивал влиятельный философ 20 века Карл Поппер. Если утверждение нельзя опровергнуть, оно не является фальсифицируемым. И, как он писал в «Логике научных открытий», «поскольку это не фальсифицируемо, оно не говорит о реальности» (в эту категорию попадают, например, существование призраков и Бога).
Но не менее важно понимать, что эта неизбежная неопределенность не умаляет цели науки.В системе «фальсификационизма» Поппера, чем больше ученые проверяют теорию, не опровергая ее, тем больше вероятность того, что она будет точной — тем лучше она «подтверждена», говоря лабораторным жаргоном. Если она выдерживает достаточное внимание, она получает титул «теории», как общая теория относительности Альберта Эйнштейна или гелиоцентризм Николая Коперника.
Когда ученые используют слово «теория», они не имеют в виду его в разговорном смысле «просто теория». Как раз наоборот: это высшая честь, которую может удостаиваться эмпирическое объяснение.Конечно, теория может быть ошибочной, поскольку проблема индукции препятствует абсолютной уверенности. Но строгость научного метода делает маловероятным достижение консенсуса без веских доказательств.
Ученые проявляют особую бдительность при оценке доказательств, противоречащих устоявшейся теории. Когда в 2011 году группа исследователей заявила, что обнаружила нейтрино, движущиеся быстрее скорости света, то есть совершающие невозможное, британский физик Джим Аль-Халили был настолько готов защищать ограничение космической скорости, что поклялся «съесть мои боксеры на прямом эфире», если это окажется правдой.К счастью, в течение года дальнейший анализ избавил его от смущения.
Иногда ученые могут быть слишком упрямы в сопротивлении новым теориям. На рубеже 20-го века, когда данные об орбите Меркурия дискредитировали давние законы тяготения Ньютона, многие физики были насторожены. Даже после того, как десятилетия доказательств отдавали предпочтение теории относительности, а не ньютоновской физике, «были некоторые, кто никогда не принимал ее», — говорит Питер Викерс, философ науки из Даремского университета. «Они сошли в могилу со словами: «Теория хороша».’» Макс Планк, основатель квантовой теории, цинично заметил, что новая научная истина торжествует не потому, что убеждает всех, «а скорее потому, что ее противники в конце концов умирают».
Несмотря на это, новые поколения всегда принимали правду (или лучшую доступную версию). В этом, по словам Викерс, и заключается смысл. Научный метод не является гарантией от ошибок в отдельных случаях — он просто гарантирует, что более широкий научный мир установит рекорд. «Люди идут в самых разных направлениях, и многие из них заходят в тупик», — говорит он.«Но идея в том, что сообщество в целом движется вперед».
Назад к ученым
Виккерс считает себя одним из философов науки, «прежде всего занимающихся наукой» — недавнее движение, которое фокусируется на том, как ученые на самом деле практикуют свое ремесло. Учитывая их «очевидные успехи», если философская точка зрения утверждает, что они должны действовать иначе, чем на самом деле, он скорее отбросит эту философскую точку зрения. «Это исходит из послужного списка науки», — говорит он. «В какой-то момент невозможно отрицать, что ученые что-то поняли правильно.
Возьмите вирусологию. Вирусные частицы слишком малы, чтобы наблюдать, как они заражают носителей и опустошают их тела. Крайний скептик может сказать, что ученые на самом деле не понимают эти процессы, но это не помешало искоренению полиомиелита (или быстрой разработке вакцины против COVID-19). На астрономическом конце спектра никто не наблюдал за Солнцем с достаточно близкого расстояния, чтобы быть уверенным, что это звезда, однако «ни один ученый в мире не усомнится в этом», — говорит Викерс. «Мы установили некоторые вещи вне всяких разумных сомнений.”
Все, что нужно сказать: наука в порядке. Действительно, неясно, в какой степени меняющиеся философские тенденции повлияли на ход науки. («Возможно, немного, — говорит Викерс, — хотя некоторые выдающиеся ученые ссылаются на Поппера как на человека, оказавшего большое влияние. Приведенная выше цитата Бонди продолжается: «В науке не больше, чем ее метод, а в ее методе не больше, чем сказал Поппер. »)
Принять философию, ориентированную на науку, означает также отказаться от представления о единственном истинном научном методе, как это сделали многие философы в последние десятилетия.Николас Расмуссен, историк науки из Университета Нового Южного Уэльса, сравнил «постоянные поиски» единственного метода (или даже нескольких) с «безнадежным прыжком лосося на непреодолимую плотину».
На самом широком уровне, конечно, наука развертывает все методологические элементы. Но если рассмотреть специализированные области и отдельных ученых, становится ясно, что они различаются. Будучи физиком-теоретиком, Эйнштейн использовал дедуктивные рассуждения, чтобы прийти к своим теориям, экспериментируя только в своем уме.Затем Александр Флеминг открыл пенициллин индуктивно, заметив своеобразную плесень в чашке Петри и изучив ее свойства.
Два знаменитых ученых, но «виды практики, которыми они занимаются изо дня в день, совершенно разные», — говорит Викерс. «Я думаю, что многие философы сейчас посмотрели бы на все эти теории научного метода и сказали бы, что все они иногда используются кем-то и в каком-то контексте. И это то, чего ты хочешь».
(PDF) Происхождение научного метода
Школа под названием «логический позитивизм».Моррис Шлик присоединился к собраниям и организовал группу в
Общество Эрнста Маха. К группе присоединились многие другие, в том числе: Густав Бергманн, Рудольф
Карнап, Герберт Фейгл, Курт Фодель, Ча Хунг, Виктор Драфт, Карл Менгер, Рихард фон Мизес,
Марсель, Наткин, Теодор Рдакови, Роуз Рэнд, Мориц Шлик, и Фридрих Вайсманн. Кроме того,
Витгенштейн и Карл Поппер будут присутствовать на более поздних встречах. философские проблемы.
Первая позиция противоречила любой традиционной философии, утверждавшей, что за реальностью физического мира стоит дополнительная реальность, метафизическая реальность. Венский кружок атаковал
метафизику как любой источник знания. Венский кружок философски привлекал логиков –
особое влияние оказали тогда работы Рассела и Уайтхеда по логическим основаниям
математики.
Эрнест Мах (1838-1916) родился в Чирлице (ныне часть Чехии).В 1860 году,
, он получил докторскую степень по физике в Венском университете. В 1867 году он стал
профессором экспериментальной физики в Университете Карла-Фердинанда в Праге. Mach
сфотографировал и описал ударные волны в воздухе. Мах также отстаивал философию
феноменализма, признавая ощущения основой реальности.
(http://en.wikipedia.org, Ernst Mach, 2009)
В 1929 году Ганс Ган и Отто Нейрат, а также Рудольф Карнап написали «манифест» для
Общества Эрнста Маха, Научная концепция Мир: Венский круг.Их центральной темой
было уничтожение любой метафизики как претендента на физику как источник реальности. Они
писали: «Не остается места для априорных синтетических суждений. То познание мира есть
возможное покоится, но на принципе упорядочивания материала определенным, естественным образом — и
не на человеческом разуме, запечатлевшем любую форму в материи. Вид и степень этого порядка
не могут быть известны заранее… Только шаг за шагом продвигающееся исследование эмпирической
науки может научить нас, в какой степени мир регулярен.Метод индукции, вывод от
вчера к завтрашнему дню, отсюда туда, конечно, верен только в том случае, если существует регулярность. . . Однако
эпистемологическая рефлексия требует, чтобы индуктивному выводу придавалось значение только
в той мере, в какой его можно проверить эмпирически». Ган, Нейрат, Карнап, 1929.
(http://gnadav.googlepages.comTheScientificConceptonoftheWorldeng.doc)
В этом манифесте мы видим три центральных допущения логического позитивизма:
(1) Эксперимент есть фундамент (база, основание) познания.
(2) Закономерность в мире (логический порядок) должна быть обнаружена, а не предполагаться
философски (метафизически).
(3) Теория строится непосредственно по индукции из эксперимента.
Рудольф Карнап позже писал: «Я буду называть метафизическими все те суждения, которые претендуют на
, представляющие знание о чем-то, что выше или за пределами всякого опыта, т. е.г. о реальной
Сущности вещей, о Вещах в себе, Абсолюте и тому подобном. . . (традиционная
метафизика) претендовали на то, чтобы учить знанию более высокого уровня, чем эмпирическая наука.
Таким образом, они были вынуждены разорвать всякую связь между своими (метафизическими) положениями и
опытом; и именно с помощью этой процедуры они выводили их из любого смысла» (Карнап, Рудольф.
1935. Философия и логический синтаксис. (http://www.philosophy.ru/edu/ref/sci/carnap.html, 2009)
И из-за этого акцента на индукции-как-научном-методе Венский кружок
подчеркнул роль логического анализа в философии. Если традиционная роль метафизики была
исключена из современной философии (заменена научным методом), то то, что осталось для
10
Наука Философия и практика: научный метод
Введение
Научный метод есть подход используется учеными при открытии новых научных знаний.Упрощенная схема этого подхода, сводящаяся к наблюдениям, формированию гипотез (возможных причинно-следственных объяснений) и проверке гипотез дальнейшими наблюдениями, часто преподается студентам как научный метод. Хотя на самом деле не существует единого научного метода, универсального способа проведения научного исследования, все подходы ученых к открытию знания имеют некоторые общие элементы, отличающие науку от других способов познания — способов познания, характерных для религиозной веры, здравого смысла. , личные отношения и так далее.Среди ученых и философов общепринято, что научные утверждения должны быть способны быть фальсифицированы другими учеными, должны вписываться в некую структуру объяснительных идей (теорию) и должны делать осмысленные предсказания относительно наблюдаемой Вселенной. Проведение наблюдений, формирование причинно-следственных объяснений и сопоставление этих гипотез с дальнейшими наблюдениями являются основой для создания нового научного знания, хотя они далеко не все и редко практикуются в прямой, механический способ.
Историческая справка и научные основы
Научные способы мышления развивались в течение примерно 2000 лет, начиная с форм решения проблем на основе здравого смысла, используемых людьми в повседневной жизни. Сегодня научное знание представляет собой большую, постоянно растущую систему, которую отдельные ученые могут добавлять, только следуя той или иной форме процедуры, известной как научный метод.
Греческие философы за несколько столетий до нашей эры, особенно Аристотель (384–322 до н. э.), были одними из первых, кто тщательно задумался о том, как мы получаем знания о мире природы — научные знания.Аристотель учил, что наука зависит от двух основных форм рассуждений: индукции и дедукции.
Индукция есть вывод (рассуждение) общих принципов из конкретных наблюдений. Например, если мы заметим, что тяжелые объекты без исключения падают прямо вниз, когда их отпускают, мы можем индуктивно заключить, что все объекты имеют какое-то общее свойство — массу, на которую действует некоторая сила, связанная с Землей, — гравитация. (Из этого простого наблюдения возможны и другие выводы, и на самом деле греки не рассуждали в терминах «сил».)) Кроме того, тщательные наблюдения за тем, как именно быстро падают объекты, могут позволить нам вывести строгий математический закон, описывающий, как сила гравитации ускоряет тела. Это сделали европейские физики в семнадцатом веке, на заре научной революции.
Дедукция, , с другой стороны, является предсказанием конкретных событий или наблюдений из общих принципов или законов: это похоже на индукцию, работающую в обратном направлении. Например, как только мы предложили закон гравитации, мы можем вывести из него, как должен вести себя космический зонд на пути от Земли к Марсу.Если зонд ведет себя так, как было предсказано, закон подтверждается, по крайней мере, на данный момент.
И индукция, и дедукция являются частью научного метода. Из наблюдений законы могут быть получены с использованием индуктивных рассуждений. Из этих законов можно вывести предсказания. Эти предсказания можно проверить, организовав дальнейшие наблюдения. На основании этих дальнейших наблюдений можно внести коррективы в предполагаемые научные законы.
Вариант этого научного метода был описан арабским ученым Ибн аль Хайсамом (965–1039) в одиннадцатом веке.Английский философ и францисканский монах Роджер Бэкон (1219–1294) предложил вариант метода аль-Хайтама, который еще более точно предвосхитил современный идеал: наблюдайте явления, выдвигайте гипотезу для объяснения наблюдаемого, делайте новые наблюдения для проверки гипотезы и опубликуйте свою работу, чтобы другие могли ее проверить. В 1600-х годах физики (ученые, изучающие фундаментальные законы, управляющие всеми физическими объектами), в том числе Исаак Ньютон (1643–1727), предложили новые стандарты научной мысли.В девятнадцатом веке несколько философов усовершенствовали эти стандарты до ряда идеальных шагов, которые стали известны как научный метод. В двадцатом веке многие философы и историки бросили вызов старому, упрощенному взгляду на науку как на простой поворот рукоятки научного метода.
Классический научный метод, который до сих пор преподают старшеклассникам и студентам колледжей, заключается в следующем:
- Наблюдение за природными явлениями.
- Предложите возможное причинно-следственное объяснение, гипотезу, объясняющую наблюдения.
- Используйте гипотезу для предсказания еще не наблюдаемых явлений.
- Организовать наблюдения за предсказанными явлениями.
- Если новые наблюдения не согласуются с прогнозом, вернитесь к шагу 2 и пересмотрите свою гипотезу. Повторяйте эти шаги, пока ваша гипотеза не будет учитывать все известные наблюдения.
Многие философы, историки и ученые отмечают, что в реальной жизни наука не всегда упорядоченно следует шагам научного метода.Ученые часто делают интуитивные предположения, основанные на очень незначительных наблюдениях; существующие теории влияют на то, какие наблюдения будут сделаны из бесконечного числа наблюдений, которые могут быть сделаны, а аномальные наблюдения, которые кажутся противоречащими хорошо поддерживаемой теории, могут быть проигнорированы или отложены на время.
В 1930-х годах американский философ Карл Поппер (1902–1994) предположил, что отличительной чертой истинно научной идеи является то, что она поддается фальсификации, то есть делает предсказания, которые можно проверить с помощью наблюдений (шаг 4 классического научного подхода). метод).В последние десятилетия другие философы указывали на неадекватность определения Поппера: просто делать фальсифицируемые предсказания — это не то же самое, что заниматься наукой. Например, человек может по прихоти заявить, что автомобили работают на воздухе. Это утверждение можно опровергнуть, заметив, что для движения автомобили должны быть снабжены жидким топливом или электричеством. Однако, даже несмотря на то, что она поддается фальсификации, гипотеза о движении автомобилей по воздуху не является научной: это просто свободно распространяемое утверждение, которое не следует из конкретных наблюдений или какой-либо последовательной теории причин и следствий.Все научные утверждения опровержимы, но не все опровержимые утверждения являются научными.
Объяснения, основанные на магии, богах, чудесах или других сверхъестественных причинах, никогда не бывают научными, потому что, если сверхъестественные силы действительно существуют, они, в принципе, могут вызвать что угодно. Такие силы потенциально совместимы со всеми возможными наблюдениями, и поэтому их существование не может быть окончательно проверено. Наука изучает только естественные объяснения, потому что это единственные объяснения, которые можно исключить или исключить с помощью научного метода.
Современные культурные связи
Не все ученые применяют научный метод одинаково. Например, ученые часто проводят различие между историческими науками и экспериментальными науками. Исторические науки, такие как астрономия, геология, эволюционная биология и астрофизика, стремятся объяснить цепочки событий, происходивших в прошлом. Экспериментальные науки, такие как физика, проверяют свои гипотезы в контролируемых условиях (например, в лабораториях). Оба типа науки являются полностью научными и действуют в соответствии с основными принципами научного метода.Разница в том, что ученые-историки обычно предсказывают новые наблюдения естественных свидетельств или событий, а не устраивают эксперименты.
В КОНТЕКСТЕ : НАБЛЮДЕНИЕ VS. ТЕОРИЯВ конце 1990-х некоторые ученые наблюдали эффект, получивший название аномалии Пионера. Было замечено, что космические зонды Pioneer 10 и Pioneer 11 , запущенные Соединенными Штатами в 1972 и 1973 годах соответственно для исследования внешней Солнечной системы (они до сих пор плывут в космосе), двигались по путям, которые не могли быть точно объясняется с помощью существующих законов гравитации.Ученые изучили все возможные причины аномалии «Пионер», какие только могли придумать: утечки топлива, действующие как слабые ракеты, сопротивление пыли и газа, плавающих в космосе, ошибки измерений из-за волн, разбивающихся о берег в милях от радиолокационных станций, отслеживающих космический корабль, и многое другое. — но не мог объяснить аномалию. Тот же эффект наблюдался, хотя и с большей погрешностью, для двух других зондов, летящих через внешнюю часть Солнечной системы, Ulysses и Galileo.
Поскольку не удалось выявить никакой силы, которая могла бы вызвать аномальное движение этих космических кораблей, оказалось, что эти наблюдения могут противоречить господствующей теории гравитации, общей теории относительности.Однако общая теория относительности была поддержана многими другими наблюдениями, и ни один ученый не захотел отвергнуть ее, основываясь только на аномалии Пионера. Это иллюстрирует принцип, согласно которому нескольких аномальных наблюдений не обязательно достаточно, чтобы опровергнуть хорошо поддерживаемую научную теорию.
По состоянию на 2008 год аномалия Пионера оставалась необъяснимой, в то время как астрономы продолжали делать множество других наблюдений, подтверждающих предсказания общей теории относительности.
Иногда возникает путаница, когда люди предполагают, что делать наблюдения означает проводить эксперименты, то есть манипулировать объектами и силами в лаборатории для получения определенного результата.Например, люди, не верящие в биологическую теорию эволюции (в науке «теория» — это не догадка, а любое хорошо обоснованное объяснение совокупности фактов), иногда утверждают, что из-за того, что никто не присутствовал при наблюдении за эволюцией жизни, и поскольку эволюцию нельзя повторить в лаборатории, утверждения ученых об эволюции являются вопросом веры, а не науки.
Однако это возражение основано на непонимании научного метода. Наблюдения не обязательно должны быть основаны на лабораторных экспериментах, чтобы поддерживать или опровергать научную теорию.Например, в двадцатом веке окаменелости, собранные палеонтологами (учеными, изучающими окаменелости), показали, что самые ранние из известных наземных животных с четырьмя конечностями появились в позднем девоне, около 360 миллионов лет назад. Это соответствует шагу 1 научного метода: наблюдение. Эволюционная теория предсказывает, что такие животные произошли от четырехногих рыб, обитавших на мелководье в прибрежных водах, как раз перед появлением первых определенно наземных животных, и что в это время должны были развиться переходные (или промежуточные) животные.Это соответствует шагу 2: Создание гипотезы. В начале 2000-х годов несколько палеонтологов, прочитав в учебнике по геологии, что на острове Элсмир в северной Канаде обнаружены прибрежные породы возрастом около 375 миллионов лет, пришли к выводу, что там должны быть найдены окаменелости переходных животных. Это соответствует шагу 3: Сделать прогноз на основе гипотезы. Эти ученые организовали экспедицию на остров Элсмир (этап 4: организация новых наблюдений) и в 2004 году обнаружили окаменелости именно такого переходного животного, теперь известного как тиктаалик. Открытие окаменелостей тиктааликов было наблюдением, подтвердившим гипотезу эволюции, как и многие другие наблюдения за последние полтора века.
Связь с первоисточником
Два тысячелетия научных открытий подытожены и помещены в список «лучших из» в этой статье репортера New York Times Джорджа Джонсона. Джонсон также является автором книги «Звезды мисс Ливитт » и в 2005 году получил стипендию Темплтона-Кембриджа в области журналистики в области науки и религии.
ВОТ ОНИ, 10 САМЫХ КРАСИВЫХ НАУЧНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Независимо от того, разбивают ли они субатомные частицы на ускорителях, секвенируют ли геном или анализируют колебания далекой звезды, эксперименты, привлекающие внимание всего мира, часто обходятся в миллионы долларов. выполнять и создавать потоки данных, которые будут обрабатываться суперкомпьютерами в течение нескольких месяцев. Некоторые исследовательские группы выросли до размеров небольших компаний.
Но в конечном итоге наука сводится к индивидуальному разуму, пытающемуся справиться с чем-то таинственным.Когда Роберт П. Криз, член философского факультета Государственного университета Нью-Йорка в Стоуни-Брук и историк Брукхейвенской национальной лаборатории, недавно попросил физиков назвать самый красивый эксперимент всех времен, 10 победителей были в основном сольными выступлениями. , с участием не более нескольких помощников. Большинство экспериментов, которые перечислены в списке Physics World за этот месяц, проводились на столе, и ни один из них не требовал большей вычислительной мощности, чем логарифмическая линейка или калькулятор.
Их объединяет то, что они олицетворяют неуловимое качество, которое ученые называют красотой. Это красота в классическом смысле: логическая простота аппарата, как и логическая простота анализа, кажутся такими же неизбежными и чистыми, как линии греческого памятника. Путаница и двусмысленность на мгновение отметаются в сторону, и становится ясно что-то новое в природе.
Список в Мире Физики был ранжирован в соответствии с популярностью, первое место досталось эксперименту, ярко продемонстрировавшему квантовую природу физического мира.Но наука — это кумулятивное предприятие, и в этом ее красота. Переставленные в хронологическом порядке и аннотированные ниже, победители дают представление о более чем 2000 лет открытий с высоты птичьего полета.
Измерение Эратосфеном окружности Земли
В полдень в день летнего солнцестояния в египетском городе, который сейчас называется Асуан, солнце парит прямо над головой: предметы не отбрасывают тени, а солнечный свет падает прямо в глубокий колодец. Когда он прочитал этот факт, Эратосфен, библиотекарь в Александрии в третьем веке до нашей эры, понял, что у него есть информация, необходимая для оценки окружности планеты.В тот же день и время он измерил тени в Александрии и обнаружил, что солнечные лучи там имеют небольшой наклон, отклоняясь от вертикали примерно на семь градусов.
Остальное просто геометрия. Предполагая, что Земля сферическая, ее окружность охватывает 360 градусов. Итак, если два города находятся на расстоянии семи градусов друг от друга, это составит семь 360-х полного круга — примерно одну пятидесятую. Оценив по времени путешествия, что города находились на расстоянии 5000 «стадий» друг от друга, Эратосфен пришел к выводу, что Земля должна быть в 50 раз больше по размеру — 250 000 стадий в обхвате.Ученые расходятся во мнениях относительно длины греческого стадиона, поэтому невозможно узнать, насколько он точен. Но, по некоторым подсчетам, он ошибся всего на 5 процентов. (Рейтинг: 7)
Эксперимент Галилея с падающими объектами
В конце 1500-х все знали, что тяжелые объекты падают быстрее, чем более легкие. Ведь так сказал Аристотель. То, что древнегреческий ученый все еще обладал такой властью, было признаком того, насколько далеко зашла наука в темные века.
Галилео Галилей, заведовавший кафедрой математики в Пизанском университете, имел наглость подвергнуть сомнению общеизвестное.Эта история стала частью научного фольклора: считается, что он сбросил два разных груза с городской Пизанской башни, показывая, что они приземлились в одно и то же время. Его вызовы Аристотелю, возможно, стоили Галилею работы, но он продемонстрировал важность принятия природы, а не человеческого авторитета, в качестве окончательного арбитра в вопросах науки. (Рейтинг: 2)
Эксперименты Галилея с катанием шаров по наклонным плоскостям
Галилей продолжал совершенствовать свои представления о движущихся объектах.Он взял доску длиной 12 локтей и шириной поллоктя (примерно 20 футов на 10 дюймов) и вырезал канавку по центру как можно более прямую и гладкую. Он наклонил самолет и катал по нему латунные шарики, измеряя время их падения с помощью водяных часов — большого сосуда, который через тонкую трубку опорожнялся в стакан. После каждого прогона он взвешивал вытекшую воду — свое измерение прошедшего времени — и сравнивал его с расстоянием, пройденным мячом.
Аристотель предсказал бы, что скорость катящегося шара постоянна: удвойте его время в пути, и вы удвоите расстояние, которое он пройдет.Галилей смог показать, что расстояние на самом деле пропорционально квадрату времени: удвойте его, и мяч пролетит в четыре раза дальше. Причина в том, что он постоянно ускоряется под действием силы тяжести. (Рейтинг: 8)
Разложение солнечного света Ньютоном с помощью призмы
Исаак Ньютон родился в год смерти Галилея. Он окончил Тринити-колледж в Кембридже в 1665 году, затем пару лет скрывался дома, пережидая чуму. У него не было проблем с тем, чтобы занять себя.
Здравый смысл подсказывал, что белый свет — это самая чистая форма (снова Аристотель), и поэтому цветной свет должен был каким-то образом измениться. Чтобы проверить эту гипотезу, Ньютон направил луч солнечного света через стеклянную призму и показал, что он распадается на спектр, отбрасываемый на стену. Конечно, люди уже знали о радугах, но считали их не более чем красивыми аберрациями. На самом деле, заключил Ньютон, именно эти цвета — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, индиго, фиолетовый и градации между ними — были основными.То, что казалось простым на поверхности, лучом белого света, было, если смотреть глубже, прекрасно сложным. (Рейтинг: 4)
Эксперимент Кавендиша с торсионным стержнем
Другим вкладом Ньютона была его теория гравитации, согласно которой сила притяжения между двумя объектами увеличивается пропорционально квадрату их масс и уменьшается пропорционально квадрату их масс. расстояние между ними. Но насколько сильна гравитация в первую очередь?
В конце 1700-х английский ученый Генри Кавендиш решил это выяснить.Он взял шестифутовый деревянный стержень и прикрепил к каждому концу маленькие металлические сферы, как гантель, а затем подвесил его на проволоке. Две 350-фунтовые свинцовые сферы, расположенные рядом, оказывали достаточно гравитационной силы, чтобы тянуть меньшие шары, заставляя гантель двигаться, а проволоку скручивать. Установив тонко выгравированные кусочки слоновой кости на конце каждого рычага и по бокам футляра, он смог измерить незначительное смещение. Для защиты от влияния воздушных потоков аппарат (называемый крутильными весами) помещался в комнату и наблюдался с помощью телескопов, установленных по бокам.
Результатом стала удивительно точная оценка параметра, называемого гравитационной постоянной, и исходя из этого Кавендиш смог рассчитать плотность и массу Земли. Эрастофен измерил расстояние вокруг планеты. Кавендиш взвесил его: 6,0 × 1024 кг, или около 13 триллионов триллионов фунтов. (Рейтинг: 6)
Эксперимент Янга с интерференцией света
Ньютон не всегда был прав. С помощью различных аргументов он подтолкнул научный мейнстрим к убеждению, что свет состоит исключительно из частиц, а не из волн.В 1803 году Томас Янг, английский врач и физик, проверил эту идею. Он прорезал дырку в оконной ставне, прикрыл ее листом толстой бумаги с крошечной дырочкой и использовал зеркало, чтобы отклонить тонкий луч, проходящий через нее. Затем он взял «листок карты шириной около одной тридцатой дюйма» и провел его ребром по пути луча, разделив его на две части. Результатом стала тень из чередующихся светлых и темных полос — явление, которое можно было бы объяснить, если бы два луча взаимодействовали подобно волнам.
Яркие полосы появились там, где два гребня перекрывались, усиливая друг друга; темные полосы отмечены там, где гребень выровнялся с впадиной, нейтрализуя друг друга.
Демонстрация часто повторялась на протяжении многих лет с использованием карты с двумя отверстиями для разделения луча. Эти так называемые эксперименты с двумя щелями стали стандартом для определения волнообразных движений — факт, который стал особенно важным столетие спустя, когда появилась квантовая теория. (Рейтинг: 5)
Маятник Фуко
В прошлом году, когда ученые установили маятник над Южным полюсом и наблюдали, как он качается, они воспроизвели знаменитую демонстрацию, проведенную в Париже в 1851 году.Используя стальную проволоку длиной 220 футов, французский ученый Жан-Бернар-Леон Фуко подвесил 62-фунтовый железный шар к куполу Пантеона и привел его в движение, раскачиваясь вперед и назад. Чтобы отметить его продвижение, он прикрепил к шару перо и положил кольцо из влажного песка на этаж ниже.
Зрители с трепетом наблюдали, как маятник необъяснимым образом вращался, оставляя немного разные следы при каждом колебании. На самом деле это был пол Пантеона, который медленно двигался, и Фуко убедительнее, чем когда-либо, показал, что Земля вращается вокруг своей оси.На широте Парижа путь маятника будет совершать полный оборот по часовой стрелке каждые 30 часов; в Южном полушарии он будет вращаться против часовой стрелки, а на экваторе вообще не будет вращаться. На Южном полюсе, как подтвердили современные ученые, период вращения составляет 24 часа. (Рейтинг: 10)
Эксперимент Милликена с каплей масла
С древних времен ученые изучали электричество — неосязаемую сущность, которая исходила с неба в виде молнии или могла быть получена, просто проводя щеткой по волосам.В 1897 г. (в эксперименте, который легко мог попасть в этот список) английский физик Дж. Дж. Томсон установил, что электричество состоит из отрицательно заряженных частиц — электронов. В 1909 году американскому ученому Роберту Милликэну было поручено измерить их заряд.
Используя распылитель духов, он распылил крошечные капли масла в прозрачную камеру. Вверху и внизу были металлические пластины, прикрепленные к батарее, что делало одну положительной, а другую отрицательной. Поскольку каждая капля набирала небольшой заряд статического электричества при движении по воздуху, скорость ее опускания можно было контролировать, изменяя напряжение на пластинах.(Когда эта электрическая сила совпадала с силой тяжести, капля — «подобная яркой звезде на черном фоне» — парила бы в воздухе.) Милликен наблюдал одну каплю за другой, меняя напряжение и отмечая эффект. После многих повторений он пришел к выводу, что заряд может принимать только определенные фиксированные значения. Наименьшая из этих частей была ничем иным, как зарядом одного электрона. (Рейтинг: 3)
Открытие Резерфордом ядра
Когда Эрнест Резерфорд экспериментировал с радиоактивностью в Манчестерском университете в 1911 году, обычно считалось, что атомы состоят из больших мягких сгустков положительного электрического заряда с электронами, встроенными внутрь— модель «сливовый пудинг».Но когда он и его помощники выпустили крошечные положительно заряженные снаряды, называемые альфа-частицами, в тонкую золотую фольгу, они были удивлены тем, что крошечный процент из них отскочил назад. Как будто пули рикошетили от Желе-О.
Резерфорд подсчитал, что на самом деле атомы не такие уж и мягкие. Большая часть массы должна быть сосредоточена в крошечном ядре, называемом теперь ядром, вокруг которого парят электроны. С поправками из квантовой теории этот образ атома сохраняется и сегодня.(Рейтинг: 9)
Эксперимент Юнга с двумя щелями, примененный к интерференции одиночных электронов
Ни Ньютон, ни Юнг не были полностью правы относительно природы света. Хотя он состоит не просто из частиц, его нельзя описать и как чистую волну. В первые пять лет 20-го века Макс Планк, а затем Альберт Эйнштейн показали соответственно, что свет излучается и поглощается пакетами, называемыми фотонами. Но другие эксперименты продолжали подтверждать, что свет также волнообразен.
Потребовалась квантовая теория, разработанная в течение следующих нескольких десятилетий, чтобы примирить обе идеи: фотоны и другие субатомные частицы — электроны, протоны и т. д. — демонстрируют два взаимодополняющих качества; они, как выразился один физик, «волны».
Чтобы объяснить эту идею другим и самим себе, физики часто использовали мысленный эксперимент, в котором двухщелевая демонстрация Юнга повторяется с пучком электронов вместо света. Следуя законам квантовой механики, поток частиц разделился бы на две части, и меньшие потоки стали бы мешать друг другу, оставляя тот же узор из светлых и темных полос, что и отбрасываемый светом.Частицы будут вести себя как волны.
Согласно сопроводительной статье редактора журнала Питера Роджерса в журнале Physics Today, , только в 1961 году кто-то (Клаус Йонссон из Тюбингена) провел эксперимент в реальном мире.
К тому времени результат никого особенно не удивил, и доклад, как и большинство, был анонимно поглощен наукой. (Рейтинг: 1)
Исправление: 27 сентября 2002 г., пятница. Статья в Science Times во вторник об экспериментах, выбранных физиками как 10 самых красивых в истории, в какой-то момент ошибочно ссылалась на журнал под редакцией Питера Роджерса, который первым напечатал список.Это Physics World, , а не Physics Today.
Картина со статьей, идентифицированной как изображение Генри Кавендиша, была опубликована по ошибке. На нем был изображен другой ученый 18-го века, Джозеф Пристли, который не фигурировал в списке.
Исправление: 7 октября 2002 г., понедельник. Статья в Science Times от 24 сентября о выборе физиками 10 самых красивых экспериментов исказила часть теории гравитации Ньютона, процитированную в обсуждении эксперимента Кавендиша с торсионным стержнем.Ньютон считал, что сила притяжения между двумя объектами увеличивается с произведением их масс, а не с квадратом их масс.
Джордж Джонсон
Джонсон, Джордж. «Вот они, 10 самых красивых научных экспериментов». Нью-Йорк Таймс (24 сентября 2002 г.).
См. также Биология: эволюционная теория; Биология: Палеонтология.
Библиография
Книги
Gauch, Hugh G., Jr. Научный метод на практике. Кембридж, Великобритания: Cambridge University Press, 2002.
Периодические издания
Клеланд, Кэрол Э. «Методологические и эпистемологические различия между исторической наукой и экспериментальной наукой».

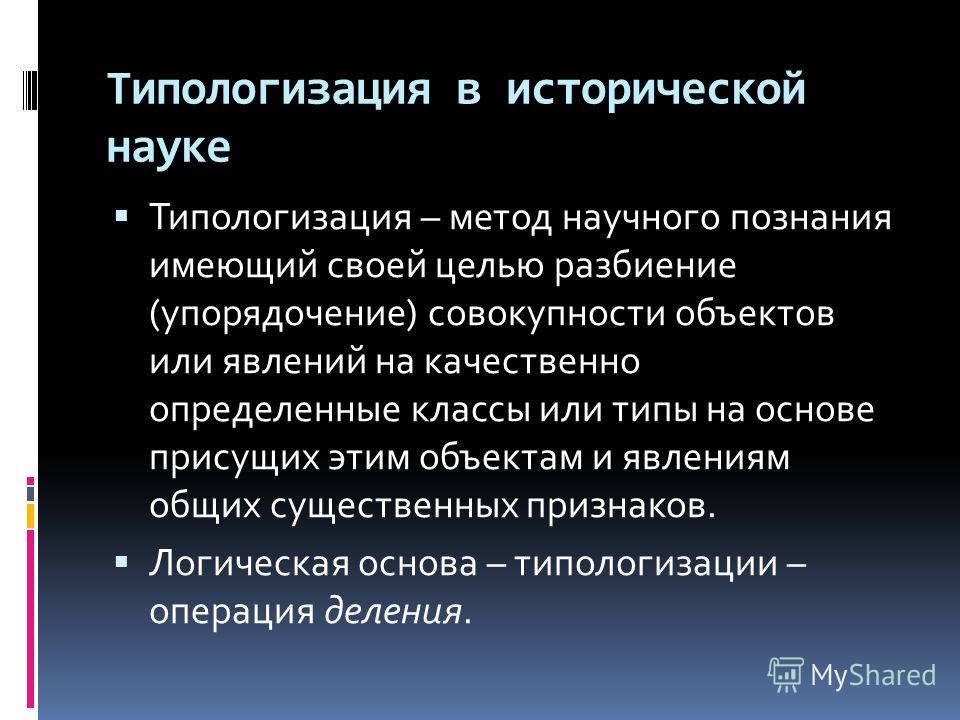 // Проблемы исторического познания. Материалы международной конференции. Москва 19-21 мая 1996 г. М.,1999.
// Проблемы исторического познания. Материалы международной конференции. Москва 19-21 мая 1996 г. М.,1999. Этот новый подход отстаивал индуктивное рассуждение как основу научного мышления. Бэкон также утверждал, что только четкая система научных исследований может обеспечить господство человека над миром.
Этот новый подход отстаивал индуктивное рассуждение как основу научного мышления. Бэкон также утверждал, что только четкая система научных исследований может обеспечить господство человека над миром.